|
|
|
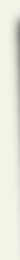 |

|
|
Раздрай до последнего винтика
28 августа 2014 года уральскому поэту и журналисту Михаилу Пилипенко
исполнилось бы 95 лет. Он рано и трагично ушел из жизни, став жертвой
предательского доноса. Но остались его стихи, книги и добрая память тех, кто его
знал.
Пилипенко был редактором молодежной газеты «На смену!», и организованное при
этой газете литобъединение, естественно, стало носить его имя. Клуб имени
Пилипенко воспитал нескольких молодых поэтов, впоследствии выпустивших свои
сборники. Трудные и плодотворные шестидесятые послужили благодатной основой для
творчества. В какой-то мере клуб был предвестником нарождающихся поэтических
объединений при самых разных организациях. О нем не так часто можно услышать, а
многие вообще о нем не знают, но он остался незабываемой страницей в истории
уральской литературы.
И сейчас в Екатеринбурге при библиотеках и домах культуры по определенным
дням недели собираются те, кто не может обходиться без поэтических встреч. Таких
добровольных кружков в городе где-то около двадцати. Потребность в творческих
встречах не исчезла, но не всегда присутствует высокий дух строгого и чистого
отношения к Слову. Время сегодняшнее, к сожалению, не очень потворствует молодым
росткам. А впрочем, когда в России было доброе, хорошее время для пишущих?
Сегодня на страницах «Проталины» два человека, имеющих прямое отношение к
клубу имени Пилипенко, делятся своими воспоминаниями.
Проталина
Только еще собираясь написать о литературном клубе имени Пилипенко, начинал я
перебирать в памяти по той или иной причине запомнившиеся события, пробовал
выстроить их в какие-то ряды, хотя бы в хронологическом порядке, но ничего не
получалось. Будь на моем месте другой человек — я имею в виду Феликса Шевелёва,
старосту нашего литературного объединения, — была бы история или летопись клуба.
А моя память устроена так, что отчетливо вижу отдельные детали, из которых
складывается общая картина времени, но тотчас же все исчезает, когда пытаюсь
понять, как эти детали друг с другом связаны и каким образом в общую картину
встроены.
Потому, наверное, и вспомнил о Феликсе Шевелёве, что мог бы, будь он жив,
обратиться за помощью к нему, бережно собиравшему и сохранявшему архив. Тогда,
наверное, что-нибудь бы и получилось. Увы, Феликса уже нет среди нас. Да и не
только Феликса. И Володи Лузянина нет, и Тамары Чуниной, Володи Кочкаренко,
Славы Терентьева, Володи Назина, Альфреда Гольда, Яши Андреева, Юры Лобанцева,
Валеры Дедкова, Саши Орлова, Толи Азовского… Не знаю о судьбах Гены Сюнькова,
Вали Пилипенко, Рины Левинзон, Нади Кузнецовой… Узнаю ли, если встретимся,
Валеру Юхневича, Валю Ферулёва, Володю Заковряжина? Из тех, с кем иногда еще
встречаюсь, могу назвать только двух-трех человек — Володю Блинова, Андрея
Комлева, Любу Ладейщикову…
Так или иначе, но все мы дружили, иногда ссорились — и такое случалось. Но как
бы ни складывались наши личные отношения, были мы одним целым, не побоюсь
высокопарного слова, командой. Да, даже после того, как клуб имени Пилипенко
прекратил свое официальное существование (попросту говоря, нас разогнали), мы
продолжали встречаться, просто читали по кругу стихи, обсуждали и разбирали,
если возникала в этом потребность, подборку какого-нибудь автора, делились
новостями, искали возможность выйти, как сами выражались, из «литературного
подполья».
Почему нас разогнали? Конечно же, не потому, что невысокий и никогда, ни в одном
споре, как бы далеко спор ни заходил, не полагавшийся на силу своих кулаков Саша
Орлов на вечере театрального училища в Доме работников искусства вдруг избил
чуть ли не двухметроворостого участкового милиционера (тогда в этом доме
собиралось и наше литературное объединение). Нахамить мог. Но сколько бы ни
подпрыгивал Саша, он бы и до верхней пуговицы милицейского мундира не достал бы.
И свидетелей не было. А все равно избил! Конечно же, совсем другие причины
подвигли руководство местного отделения Союза писателей, его партийную
организацию и, не знаю, кого еще там, «пресечь и запретить». Получилось так, что
в придачу к прочим нашим прегрешениям, касающимся по большей части
«идеологической безграмотности» и «политической беспринципности», добавился еще
и вопиющий факт избиения. А не будь этого факта, придумали бы еще что-нибудь, уж
в этом никто из нас не сомневался.
Еще в 1966 году чтение стихов на улице приравнивалось к нарушению общественного
порядка. Тогда Валера Юхневич читал 66-й сонет Шекспира, заканчивающийся словами
«Измучившись, не стал бы жить и дня, Но другу будет трудно без меня», и получил
не то десять, не то пятнадцать суток. То что говорить о конце шестидесятых?!
Понимая, что факт избиения участкового милиционера к клубу имени Пилипенко, хоть
так ты его, хоть этак поверни, все-таки за уши притянут, пригласили к нам на
предмет душеспасительной беседы не то горкомовского, а может, даже и
обкомовского товарища. Товарищ, сопровождая свою речь цитатами из
Маркса-Энгельса, Ленина и Брежнева, пытался наставить нас на путь истинный. От
него мы узнали, что, сворачивая с правильного пути (тут, хотите смейтесь, хотите
плачьте), мы рискуем оказаться в компании цветаевых, ахматовых, пастернаков и им
подобных.
Понятно, что и Союзу писателей, и тем, под чьим неусыпным контролем находился
этот союз, нужно было тихое, послушное, предсказуемое и не нарушающее
спокойствия литобъединение. Клуб имени Пилипенко в эти рамки явно не вписывался.
Сразу возникает вопрос, почему не навели требуемого порядка, почему выпустили
ситуацию из-под контроля? Почему не поставили дело так, чтобы ни у кого и
малейшего соблазна не возникало нести доходившую в крайних своих проявлениях до
антисоветчины отсебятину? Нет, пробовали и порядок наводить, и руководителей
литобъединения меняли. Мягкого Льва Румянцева, много внимания уделявшего
вопросам поэтического мастерства, но при этом забывавшего о целях и задачах
советской литературы, поменяли на более принципиального Юрия Трифонова. При
журнале «Урал» даже создали параллельное литобъединение для тех, как нам
говорили, кто уже стоит на пороге Союза писателей. Но, во-первых, едва ли не
половина пилипенковцев стояла, ни на что не надеясь, на этом самом пороге, а
во-вторых, собиралось «альтернативное» литобъединение один, ну, может быть, два
раза в году.
Обвинение в антисоветчине по тем временам не сулило ничего хорошего — это все
понимали. В наших действиях не было ничего такого, что в явном виде подрывало бы
устои существующего строя. Можно было, конечно, придираться к отдельным
строчкам. И придирались. Мне, например, категорически не рекомендовали читать
где-либо стихотворение, в котором я сравнивал примечтавшееся лирическому герою
будущее с не открытой им Америкой и с непожатой рукой. А сколько крови попортил
Юре Лобанцеву его «Этюд солипсизма»! Одного названия (в суть произведения
толком-то никто и не вчитывался) было достаточно для того, чтобы обвинить Юру в
упаднических настроениях, в крайних проявлениях и, конечно же, в чуждом
советскому читателю индивидуализме и субъективизме. А у Шевелёва: «Рушится в
небо вписавшийся мост — не оказалось другого берега». Одним словом, устала
власть от нас и под предлогом того, что клуб Пилипенко превратился чуть ли не в
проходной двор — а у нас действительно двери были открыты для всех желающих, —
нам торжественно объявили, что при Союзе писателей будет создано новое и даже
качественно новое литературное объединение. Напели еще в уши о самом строгом
отборе будущих его членов: не дай Бог, если кто-то не будет соответствовать
высокому уровню советского профессионального мастерства. Все мы без исключения,
и особенно аморальный и асоциальный тип — Саша Орлов, заполнили похожие на
библиотечные карточки анкеты (Ф.И.О. , где, что и когда опубликовал). Вот так мы
стали членами нового литобъединения. А мне эта трагикомедия запомнилась еще и
тем, что на одном из первых заседаний или собраний Саша Орлов очень выразительно
прочитал стихотворение, в котором «Сержант милиции с лицом рецидивиста грузил в
автомашину алкаша»…
Тут надо сказать, что с середины 1980-х я не предпринял ни единой попытки
где-либо напечататься, но не подумайте, что я жалуюсь на отсутствие публикаций.
Даже в журнал «Урал», о котором во времена клуба имени Пилипенко и по большим
праздникам мечтать не приходилось, попало несколько моих стихотворений. Да,
многое изменилось, наверное, в какой-то степени и то, что мы называем уровнем
поэтического мастерства, но, смею вас уверить, не настолько, чтобы, ссылаясь на
этот самый пресловутый уровень, почти никого из нас не то что в журналах, но
даже и в газетах не печатали. У Терентьева и Гольда, могут мне возразить, вышли
отдельные сборнички стихов, а в коллективном «Свидетельстве о рождении»
опубликовали подборки Лузянина, Кочкаренко, Рины Саниной (Левинзон), Лобанцева и
Сюнькова. Но возьмем хотя бы Лобанцева. К тому времени, о котором говорится, ему
уже исполнилось тридцать лет, лучшие стихи и несколько достойных читательского
внимания поэм лежали в столе, а по тому, что отобрали для печати, прошлись
редакторские ножницы. Трудно было обвинить Юру Лобанцева или Славу Терентьева в
низком уровне поэтического мастерства — не нравилась тематическая направленность
их творчества, боялись, что отдельные строки могут быть неправильно истолкованы.
Да, при всяком удобном случае не уставали повторять, что должно быть много
поэтов хороших и разных, но тут же стригли, лишних слов не говоря, всех под одну
гребенку.
Не хочу никого обвинять, и в руководстве Союза писателей были разные люди, и
едва ли они испытывали удовольствие от того, что толкали дальше то, что катилось
на них с пирамиды власти. Самое большее, что они могли сделать, даже понимая
абсурдность спускаемых на них директив и указаний, — предупредить тех, кто
находился у основания пирамиды. Такую примерно жизненную позицию занимал и
секретарь местного нашего отделения Союза писателей Лев Сорокин. Никому ничего
плохого он, насколько мне помнится, не желал, но очень огорчался, когда
нарушалось поддерживаемое его усилиями равновесие между постоянно оказываемым на
писательскую организацию и на него лично давлением верхов и упрямо не желавшими
с пониманием относиться к деятельности верхов низами, к которым причислялось и
наше литературное объединение. Ко всему в придачу Лев Леонидович старался,
насколько это было возможно, предугадать ход событий и предотвратить
нежелательные последствия тех или иных проявлений. Скажете, перестраховывался?
Да, и не скрывал этого, и мог привести массу примеров, свидетельствующих о том,
что разумная осторожность никому еще и никогда не повредила. Но надо было видеть
выражение лица секретаря отделения Союза писателей, заливающегося всеми цветами
и оттенками беспокойства, огорчения, страха и желания уйти от неприятного ему
разговора, когда кто-нибудь выходил за рамки свыше дозволенного или что-нибудь
обращало на себя внимание влиятельных особ.
А такое случалось. Видели бы вы, что сделалось с Львом Леонидовичем, когда он
услышал о том, что мы хотим провести в нашем городе выборы короля поэтов. А
почему бы и нет? Был же такой прецедент, и ничего страшного не произошло.
Конечно же, ответить сразу и определенно «да» или «нет» Сорокин не мог — ему
надо было подумать. И понятно было, что не ему, а тем, с кем он собирался
посоветоваться, а он, если и думал, то только о том, как они будут реагировать,
что скажут? И все это было написано на его лице. Единственное, что не сказал
даже, а выдавил: «Но почему короля? Совсем как-то не в духе нашего времени». Не
помню кто, Валера Лузянин, кажется, или другой Валера — Юхневич, но кто-то из
них ответил, вроде бы и соглашаясь: да, не в духе, мол, времени, — но свалял
такого дурака, что Сорокин и вовсе оторопел. Прозвучало предложение: «Давайте
председателя верховного совета поэтов выберем или генерального секретаря». Не
знаю, как бы Лев Леонидович повел себя несколькими годами позже, но тогда еще, в
шестидесятых, подобное предложение можно было пропустить мимо ушей как не очень
умную шутку.
Для нас между тем хорошо было уже то, что прямого отказа, разом пресекающего все
наши инициативы, не последовало. То, что происходило дальше, можно было назвать
вялотекущим процессом отговаривания: ну, и зачем вам это надо? Проведите,
говорили, обыкновенный конкурс, общегородской, если хотите, областной даже и
успокойтесь. На чем-то вроде конкурса после длительных переговоров будто бы и
остановились, но, сколько ни старались старшие товарищи убрать «короля», заменив
его первым, лучшим — обязательно подчеркивали — молодым поэтом или еще
чем-нибудь в этом роде, сами же соглашались: неубедительно получается.
Единственным человеком в Союзе писателей, сразу же полностью и безоговорочно
поддержавшим нас, был Борис Марьев. Он еще дальше пошел, предложив расширить
рамки мероприятия: «Почему только молодые? Пусть все желающие, в том числе и
члены Союза писателей, принимают в нем участие». Но это вообще уже не
вписывалось ни в какие рамки. Сам Марьев рассказывал мне потом, что возмущению
не было предела. Такой жабы Лёва проглотить не мог. «Черт с ними, — негодовал, —
пусть делают, что хотят, только союз не впутывают!» И выборы короля поэтов
состоялись.
Проходили выборы в актовом зале Дома работников искусства на улице Пушкинской,
12. Зал небольшой, а народу собралось столько, что и в проходах, кто как мог,
устраивались, и в дверях стояли, и в примыкающем к актовому залу холле. Кто
будет королем? В нашем кругу, среди пилипенковцев, мало кто сомневался, что
Слава Терентьев. Сказать, что Слава писал стихи — ничего не сказать: он жил
стихами; а когда читал их, негромкий, то ровно перекатывающийся через легкую
картавинку, то вдруг взрывающийся голос просто-таки завораживал. А еще и то
делало Славу Терентьева несомненным лидером, что стихи его были яркими, пусть и
несколько перегруженными, но не отвлеченно-умозрительными, а живыми, со слуха
запоминающимися образами. Но королем поэтов, вопреки нашим ожиданиям, стал не
Терентьев, а Дробиз, больше известный тогда не как поэт, а как автор
сатирических и юмористических рассказов. Может быть, это и справедливо: лирика —
одна составляющая поэтического творчества, а другая его сторона — ирония, и в
данный момент, в данной аудитории ирония оказалась востребованней.
А что же Союз писателей? Неужели и малейшего интереса не проявили к тому, что
происходило буквально у них на глазах, в одном с ними здании? Да нет, проявили.
Реакция, правда, была несколько замедленной, но короля не казнили и даже
поздравляли. У Сорокина Льва Леонидовича был покровительственно-довольный вид с
едва уловимым оттенком беспокойства, потому как боялся и перестраховывался
(совершенно зря!) — что может «прилететь». Само словосочетание «король поэтов»
там, откуда именно могло «прилететь!», входило в один ряд понятий вольных
карточных игр. И все-таки никто не стал возражать, когда через год мы захотели
провести новые выборы короля поэтов.
Нельзя, говорят, дважды ступить в одну воду. Вот и мы сомневались: первые выборы
короля были настоящим праздником, а вторые? Не превратятся ли они в тень первых,
как уже не раз случалось, когда что-нибудь уникальное, неповторимое начинали
тиражировать? С другой стороны, не так много было в литературной жизни нашего
города событий, а таких событий, в центре которых оказывались бы именно мы,
молодые, и того меньше было, чтобы не воспользоваться лишний раз возможностью
выхода к читательской аудитории. Последнее в конечном итоге и явилось тем
аргументом, который, если и не развеял все наши сомнения, то и не
воспрепятствовал действию.
Вскоре, однако, выяснилось, что на наше действие, нет — боже упаси! — не
отменяя, но только корректируя его, накладывается другое. Суть же его
заключалась в том, что старшие наши товарищи, на сей раз всячески желающие
помочь нам, предлагали отказаться от подсчета голосов: и сложно это, по их
мнению, и мало ли какие люди окажутся в зале, и что можно от них ожидать, а вот
профессиональное жюри, в состав которого вошли бы известные, всеми, разумеется,
уважаемые литераторы и критики, вне всякого сомнения, даст объективную оценку… В
том, что общественное мнение ни во что не ставилось, не было ничего
удивительного. Поэтому не удивило и то, что некоторые из нас согласились с такой
постановкой вопроса. Заспорили, никто никому ничего, как часто бывает, доказать
не мог, а пока мы спорили о том, что лучше: мнение аудитории или оценка
профессионального жюри — старшие товарищи подготовили и утвердили состав членов
этого жюри. Споры пошли по новому кругу, и трудно сказать, чем бы все это
закончилось, если бы не помирились на том, что и жюри будет, и мнение аудитории
учтут.
На этот раз выборы короля поэтов проходили в актовом зале Уральского
государственного университета. Большую часть аудитории составляли студенты.
Повлияло ли это на характер выборов, как потом утверждали некоторые члены жюри?
Едва ли. Можно, конечно, пофантазировать и представить, что было бы, будь на
месте студентов инженеры, служащие или рабочие (и возникали такие фантазии!). Но
дело это, в общем-то, пустое. Целый ряд социологических исследований, одно из
которых проводил Юрий Лобанцев, ставший, по мнению жюри, первым, а, по мнению
аудитории, вторым, показывает, что во вкусах и предпочтениях студенты мало чем
отличаются от рабочих или, к примеру, домохозяек в возрасте от двадцати до
тридцати лет, из тех, кто проявляет интерес к поэзии. То, что Лобанцев и стал
королем поэтов, справедливо. Его отточенно-строгие, не к отвлеченным поэтическим
изыскам и прелестям, а в первую очередь к свободному от предрассудков
человеческому разуму обращенные строки привлекали к себе внимание любой
аудитории. Чтобы не быть голословным, приведу для примера только одно короткое
стихотворение, а выводы делайте сами:
Задумчивость… Ей нынче не с руки
витать в тиши размеренно и кротко.
Недаром кто-то выбрал кулаки
классической опорой подбородка.
Я славлю мысль, презревшую в веках
позор костра, неумолимость дула…
И вечно славлю тяжесть кулака,
который сжат в защиту права думать!
Итак, да здравствует новый король?! Да, если опустить одну маленькую, почти и
несущественную деталь: пусть и несколько голосов, но недобрал новый король
Лобанцев у читательской аудитории, чтобы стать абсолютным победителем. Кого же
предпочла аудитория? Того, о ком вообще не было разговоров и упоминаний.
А он, оказывается, был! Был, и сам весьма удивился, когда объявили итоги
голосования аудитории. Назвали вдруг его, Валеру Юхневича. Стихи Юхневича, в
отличие от стихов Лобанцева, меньше всего были похожи на законченное, строго
подчиненное авторскому замыслу произведение. Не скажу, что Валерины стихи были
живописны, но если уж проводить параллель с живописью, то когда он начинал
читать, то все видели перед собой человека, бросающего на холст одну за другой
яркие краски, а когда уже казалось, что все! предел! — он, забывая о всякой
логике, о том, с чего начал, добавлял еще и еще. Есть такое выражение: на одном
нерве. Тут все и было на одном нерве. Но стоило только взять стихи в руки,
начать читать с листа, и тотчас же все рассыпалось, и ритм переставал быть
ритмом, и рифма уже не держала строки, и лишние, ненужные слова резали
освобождающийся от навязчивого очарования Валериного голоса слух.
Конечно же, Валера Юхневич знал о своих недостатках, но писать по-другому у него
как-то не получалось. И то, что не его короновало жюри, не воспринималось им как
трагедия. «Странно было бы, — говорил, — если бы решили иначе». Мог бы — но это
уже мой домысел — добавить: да и зачем королю вторая корона? Почему вторая? А
потому, что Юхневич, и в этом никто из ближайшего его окружения не сомневался,
был настоящим королем мистификации. Чуть ли не каждый, даже незначительный свой
поступок он сопровождал комментарием, уводящим собеседника в сторону от
привычных реалий. При этом не только собеседник переставал понимать, что правда,
а что вымысел, но, кажется, и сам король забывал, что происходило с ним в
действительности, а чего никогда и не было.
А каково было тем, кто, совершенно ничего не подозревая, вдруг оказывался героем
юхневичевских мифов? Памятен один эпизод — как попал в историю заведующий
отделом поэзии журнала «Урал» Леонид Шкавро, весьма посредственный поэт,
облеченный большой властью — кого хочет напечатать, а кого и не хочет. По всему
городу тогда распространилась история о том, как Шкавро жахнул об пол, ноги
своей не жалея, «Башкирию» или «Удмуртию» — пишмашинки такие были. Как так
случилось? Сделал властитель дум замечание молодому автору, которого даже в
пример другим ставил: нехорошо, мол, приносить в редакцию стихи без запятых, а
автор вместо того, чтобы сказать-объяснить, что пишущая машинка у него с
дефектом, возьми да и ляпни (а кто, кроме Юхневича, такое ляпнуть мог?):
«Вознесенский вообще без знаков препинания обходится!» И злые были мифы, и
безобидные. Кто что заслуживал, тот то и получал.
О свободе нам всем оставалось только мечтать. Никаких резких перемен вроде бы и
не происходило, но нельзя было отделаться от ощущения того, что дожившая до
преклонного возраста и не желающая уступать место под солнцем следующим
поколениям власть все туже и туже закручивает гайки. Те, кто творил, сколько ни
старались, не находили применения своим способностям. Впадающей в состояние
застоя и медленного умирания стране требовались не задающие лишних вопросов,
послушные власти исполнители. И было бы странным, если бы метастазы этого
явления обошли стороной литературу.
Что было делать? Приходилось приспосабливаться. У кого-то это получалось лучше,
у кого-то хуже, у кого-то не получалось вовсе. Может быть, совсем о другом
говорил молодой Чехов, только-только начинавший осваивать писательское ремесло,
когда сравнивал медицину с женой, а литературу с любовницей, но и мы испытывали
подобные чувства, с той только разницей, что нашу любовницу ограждали от нас
семью заборами за семью замками. И что самое печальное — работу эту, якобы в
целях сохранения нашего целомудрия осуществляемую, проделывали не какие-нибудь
злые монстры, а буквально на наших глазах превращающиеся в литературных
чиновников и держиморд поэты и писатели. Сама жизнь подводила к мысли о том, что
не сошелся свет клином на одной литературе. Феликс Шевелёв, например, продолжал
писать стихи только тогда уже, когда это не мешало ему заниматься основным делом
— программированием и математикой. Володя Блинов опирался на основное свое дело
— строительство и архитектуру. А Валя Ферулёв был аж директором в одном из
проектных НИИ. Валера Дедков никогда не забывал, что он биолог. Юхневич,
Кочкаренко и Гольд могли, пережидая непогоду, позволить себе такую роскошь, как
журналистика — пусть и не близкая тому, что мы называем художественной
литературой, но все же родственница. То же мог сделать и Юра Лобанцев. Но у него
столько уже накопилось замыслов и планов, так велико было желание, несмотря ни
на что, реализовать их, что, не помышляя ни о каких путях к отступлению, он сжег
за собою все мосты — ни к работе в журналистике, ни в социологию, позволявшую
хоть как-то сводить концы с концами, при всех трудностях он никогда больше не
возвращался. А Славе Терентьеву, Володе Назину, Саше Орлову и возвращаться-то
было некуда…
Мне, я считаю, несмотря на ту обстановку, которая складывалась в литературных и
окололитературных кругах в середине и ближе к концу шестидесятых, несказанно
повезло. Одно то, что несколько лет моей жизни связывало меня с клубом
Пилипенко, предопределило мою судьбу на многие и многие годы вперед. Жизнь
складывалась так, что мне не приходилось сжигать за собою мосты — скорее
наоборот, все время наводил их и вовсе не туда, куда хотелось бы, не в тех
направлениях, которые приближали бы меня именно к моим, а не навязанным
жизненными обстоятельствами целям. Но жизнь есть жизнь, и я ни о чем не жалею.
А в клубе Пилипенко я был самым молодым. Не сразу пришло осознание того, что по
сравнению с такими действительно уже сложившимися и пишущими настоящие стихи
личностями, как Терентьев или Лобанцев, я не более чем марающий бумагу
ученик-подготовишка. Смешно даже вспоминать: вот сяду, думал, если выдастся
время, и к следующему разу напишу что-нибудь такое… Да, во что бы то ни стало
удивить хотел. А они, вместо того, чтобы удивляться, говорили, как мне тогда
казалось, всякую ерунду. Если можешь не писать, говорили, не пиши. Пиши,
говорили, так, чтобы потом не приходилось объяснять, что ты хотел сказать. Не
изобретай велосипеда, не повторяй того, что уже сделали до тебя. Читай. Больше
читай. Да, прописные истины, но сам сегодня, пытаясь хоть чему-то научить
начинающих, конечно же, не поэтов еще, но пробующих поэтически мыслить, ничего
более умного не скажу.
Я уже вспоминал о том, что на каждой встрече мы обсуждали подборку одного из
членов или кандидатов в члены литобъединения. Ждал и я своей очереди, но третью
или четвертую уже подборку новых стихов приносил, а мне опять и опять не
советовали торопиться, нечего еще, говорили, обсуждать. Нет, не отталкивали, я
такого не замечал, помогали, что-то советовали, не сразу, но до чего-то начинал
доходить сам. Наконец, а почти уже год прошел, решили, что и я могу собрать
стихотворений из десяти подборку для обсуждения. За мной дело не стало, собрал
за две недели и отпечатал все лучшее, что, по моему мнению, у меня к тому
времени накопилось, а и часа не потребовалось, чтобы до последних винтиков
разобрать и раздраконить мои «шедевры». Единственным, кто хоть одно доброе слово
сказал, был Слава Терентьев: нашел две или три строчки, в которых «неожиданные
слова неожиданным образом друг на друга наехали». Знал бы он, как я ему
благодарен. Но и Лобанцеву, и Блинову, и Шевелёву, и всем остальным, потом это
до меня дошло, должен был сказать спасибо за то, что били.
Со второй подборкой уже сам я не спешил: и было, что показать, и, кажется,
начинал понимать, что в клубе Пилипенко я человек не случайный. Помню, как
отбирал стихи, с тем еще расчетом, чтобы потом читать их. Тогдашний наш
руководитель, Трифонов, требовал, чтобы не получивших одобрения стихов никто и
нигде не читал. Идиотское было требование, но по тем временам с ним приходилось
считаться. И мне в особенности — не знаю, почему, но Трифонову казалось, что от
меня у него обязательно будут какие-нибудь неприятности. Вообще-то я, как и
большая часть моих товарищей, заранее обезопасил себя от нападок официальных лиц
тем, что почти все стихи были уже опубликованы — что с того, что в
многотиражках, но ведь залитованы!
Почему я так долго и подробно обо всем этом рассказываю? Пора ставить точку, а
память только начинает по-настоящему включаться, разворачивает какие-то важные
для меня подробности. То на один случай просит отвлечься, то на другой — помню и
тот день, когда наконец должно было состояться обсуждение моих стихов и тут
выяснилось, что руководитель наш их потерял. Засунул куда-то сразу пять
экземпляров, а куда — не может вспомнить. Не нашел он их ни через неделю, ни
через месяц и так и не находил до тех пор, пока до нашего сведения не довели
официального решения о роспуске литобъединения. О причинах этого решения я уже
говорил и повторяться не буду. А подборку своих стихов я увидел у Феликса
Шевелёва. На мой вопрос, откуда он их взял, Феликс ответил тем, что снял со
стеллажа многомесячной пылью покрытый фолиант — занятия наши проходили в
библиотеке ДРИ: в этом фолианте и прятались мои стихи.
Обсуждение стихов все-таки состоялось, но уже не за большим круглым столом в
библиотеке, а в ресторане «Кедр». По той причине, что клубу имени Пилипенко уже
вынесли смертный приговор. Из найденного в фолианте я оставил восемь
стихотворений. В обсуждении, проходившем под председательством старосты нашего
клуба Шевелёва, принимали участие Лобанцев, Сюньков, Блинов, Лузянин, Кузнецова.
Навтыкали автору, что называется, по полной. Пришли к общему выводу о том, что
при той жизни, до которой докатилась наша страна, опубликовать стихи Соколова не
представляется возможным. Попеняли еще автору на то, что он не счел своим
долгом, хоть и в силу объективных причин, явиться на обсуждение своих
произведений. Кажется, я досдавал какие-то хвосты в университете. На этом все
вопросы последнего заседания клуба имени Пилипенко были исчерпаны. На следующий
день произошла не слишком торжественная, но хорошо мне запомнившаяся церемония
вручения второго экземпляра текста протокола заседания клуба подсудимому. К
протоколу прилагался счет из ресторана на общую сумму в двенадцать рублей и
сколько-то еще копеек. «Вот во что, — при мне уже допечатал на моем экземпляре
Феликс, — обошлось нам, Витя, твое обсуждение».
|
|
|
 |
|
|