|
|
|
|
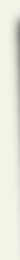 |

|
|
|
Автор о себе: «Родился в городе Полевском: ясли, детсад, школа, ремесленное
училище. Служил в армии. Ходил в море. Поступил (в 42 года) в университет, но не
доучился. Работал на заводах Урала, Приморья, Новороссийска, Калининграда. В
этом городе сейчас живу. Есть публикации в периодике».
Заповедное послание
С надрывом скрипела цепь, глубокая колея бросала переднее колесо моего
велосипеда то влево, то вправо. По одну сторону дороги рос угрюмый, темный лес,
в нем какие-то мужики делали затесы на деревьях, по другую простиралось обширное
поле.
Неожиданно в поле я увидел собак, и, что удивительно, они все были белого
окраса. Черт возьми, это же волки! Слышу визг. Они нагнали моего Султана! Сейчас
разорвут! Но Султан вдруг во всю прыть понесся ко мне. Меня забила нервная дрожь
— что же делать?! Хоть бы где палку… Спрыгиваю, чуть не падая, с велосипеда и
беспомощно озираюсь по сторонам. Взгляд цепляется за мужиков, они стоят
неподвижно, словно истуканы, и равнодушно смотрят на меня. Поздно. Мне бы их
топор! Наконец нахожу крепкий сук, длинные ветки на нем здорово мешают, но
обламывать их уже некогда. Ужас обуял меня. Собрав все силы, замахнулся... И
проснулся.
Бешено колотилось сердце — это всего лишь сон. Но каков! И приснится же — все
ярко, красочно, но, как и бывает во сне, все сдвинуто во времени и перепутано:
велосипед и собака из детства, а я совсем взрослый, да и волки в наших лесах
вряд ли водились, тем более белые.
Снова засыпая, я подумал: «Неплохо бы досмотреть, чем все это кончится». Однако,
собираясь утром на работу, уже почти забыл про ночной кошмар, если бы… не
картина, висевшая в комнате.
***
Давно это было, лет двенадцать, нет, пожалуй, четырнадцать тому назад. Я купил
ее в Сингапуре, когда наш траулер зашел туда на ремонт. Он растянулся на долгие
месяцы.
Как-то мы вышли в город. Июль. Солнце — раскаленный, слепящий сгусток энергии —
зависло почти в зените. Восточный колорит, великолепие улиц, пальмы, чужая
разноязычная речь… Не знаю, как на моих товарищей, а на меня все это действовало
ошеломляюще. Влажная духота вкупе с безжалостным солнцем сделали свое дело — мы
устали от впечатлений, а еще более от зноя, и уже возвращались на судно, когда я
предложил зайти в антикварную лавку. Все отказались. А я решительно толкнул
дверь.
Тоненько звякнул колокольчик. Под потолком бесшумно и плавно вращались длинные,
большие лопасти вентилятора, похожие на крылья стрекозы. За маленьким столиком
на полу, на голубой атласной подушке, скрестив ноги, в пол-оборота к двери сидел
старый китаец и покуривал из коротенькой трубочки. Он даже не взглянул на меня,
видимо, как-то определив, что покупать этот гость ничего не будет.
Я с любопытством осматривался. Помещение было небольшое и чистое. Возле одной
стены стояли застекленные витрины с различными бронзовыми сосудами и сосудиками,
статуэтками из нефрита, ножами с искусно отделанными рукоятками, морскими
раковинами, кораллами; с большим выбором изделий из фарфора и яшмы, а также
другими предметами, назначение которых мне было неизвестно. На другой стене
висели картины, мастерски набранные перламутром, деревянные маски и гравюры,
выполненные на ткани черной и цветной тушью. Третья стена, где сидел старик, то
есть напротив дверей, оставалась свободной и была, по-видимому, обита шелковой
превосходного колера тканью.
Одна из картин меня остановила. Небольшая, размером всего с альбомный лист, в
грубовато сделанной рамке, она как будто случайно попала в компанию этих
восточных вещей. На полотне был лесной пейзаж: хмурый расплывчатый день, темны и
мрачны могучие замшелые ели, их нижние ветви опутаны паутиной. Покрытая
мельчайшими жемчужными бисеринками влаги, она словно преграждала путь в
таинственную лесную чащу. Я даже подумал, что где-то тут должен притаиться и
черный коварный паук, раскинувший эту хитроумную сеть. Но в правый верхний угол
картины художник поместил неожиданную деталь — ветку с алой гроздью рябины. На
ее ягодах повисли кристально-прозрачные капли дождя, вот-вот готовые сорваться.
Ветка скрашивала хмурость пейзажа, она казалась маячком в темной чаще, а
контраст темно-зеленого и алого цветов завораживал.
На какое-то мгновение я забыл, где нахожусь. Картина напомнила мне о родных
краях. С внезапно нахлынувшей тоской я подумал о том громадном расстоянии,
отделявшем меня от них, и о том, что, как ни экзотичны эти благословенные теплые
страны, ничего нет милее Родины.
Китаец, попыхивая трубочкой, все так же смотрел прямо перед собой. Он походил на
тех божков, что расположились за стеклом витрины.
— Бери, Саня, — вдруг сказал он.
Русских моряков там частенько называли этим именем. Были даже магазины с
названием «Саня», хотя в них и товары порой бывали залежалыми, и качество
похуже, зато и цены были гораздо ниже, чем в супермаркетах.
Старик говорит по-русски? Теперь я с некоторым замешательством в упор
разглядывал его лицо, похожее на старую репу. С длинными висячими усами, с
тяжелыми набрякшими веками и с холодными черными глазами, лицо это было
непроницаемо.
Вопрос требовал ответа. Колеблясь, помня о том, что в моем кармане шелестят
всего 15 долларов, я все-таки спросил:
— Сколько?
— Тридцать доллар.
Китаец выпустил облачко дыма. Я молча пошел к выходу.
— Погоди! Какой твоя цена?!
Так же молча я вернулся и выложил на столик деньги, после чего простодушно
вывернул карман. Старик рассмеялся, показав длинные желтые зубы, и метнул на
меня испытующий взгляд.
— Хао*.
Он поднялся и снял со стены картину, ловким движением фокусника крутнул ее,
сдувая невидимую пыль, снова уселся на подушку и хлопнул в ладоши. В шелковой
стене бесшумно отворилась шелковая дверь, и появилась маленькая китаянка —
девочка лет десяти. Старик что-то сказал ей, она принесла лист зеленой бумаги,
завернула картину, перевязала зеленой же ленточкой и, застенчиво улыбаясь,
подала мне. Хозяин уже потерял всякий интерес к покупателю, он опять принял позу
божка, погасшая трубка лежала на столике, а его сухие, с пергаментной кожей руки
перебирали четки из нефрита.
Я вышел на улицу...
***
Мы привыкаем к вещам, даже к самым изысканным, когда они постоянно у нас на
глазах. Но в это утро я вновь, как много лет назад, засмотрелся на картину.
Стоп! Мне неожиданно показалось, что сквозь пейзаж я вижу человека, на которого
напали собаки. Быть может, волки? Белые! Что за чертовщина! Я зажмурился и
посмотрел снова — то же самое. Картина словно просвечивала: в зыбком, неверном
свете человек отбивался от зверей. Галлюцинация? Я не верил глазам своим.
Весь день я находился под впечатлением происшедшего, но вечером, придя с работы,
не увидел на картине ничего, кроме знакомого пейзажа. Покрутив ее так и этак, я
не нашел даже маломальски здравого объяснения, отметив только, что появившееся и
пропавшее новое изображение, несомненно, как-то связано со сном, и больше не
стал ломать голову.
Прошло несколько месяцев. Я приехал в командировку в один из городов
Архангельской области. Стояли лютые морозы. Городок утопал в сугробах. Светало
поздно, темнело рано, хотя день уже начал прибывать на воробьиный шаг. Так
далеко на север я попал впервые, и, конечно, мне бы хотелось увидеть северное
сияние, о котором столько наслышался.
Итак, от темна до темна ежедневно я отрабатывал свои командировочные на заводе.
Работа спорилась, дни быстро убегали, и только сияние, увы, не появлялось. И все
же однажды вечером, в пятницу, когда термометр показывал минус 37, а в небе
царила полная луна (самое время для сияния), я, потеплее одевшись, вышел из
гостиницы на улицу. Редкие прохожие в закуржавевших шапках, не в пример мне, шли
быстро, если не сказать резво, что и не удивительно при таком знатном морозе. Я
шел, поглядывая по сторонам, меланхолично размышляя о том, что везде живут люди:
одни на севере — другие на юге, для одних мороз и лишения — для других в избытке
тепло и нега; но еще неизвестно, где лучше, то ли там, то ли тут. Все
относительно: на севере мечтаешь о юге, а попав на юг, тоскуешь по северу.
Мои раздумья прервались, когда я вдруг заметил, что улица кончилась, а передо
мной раскинулось замерзшее озеро. Протоптанная в снегу тропинка вела на
противоположный берег. Там вдалеке светились огоньки. Видимо, это была окраина
города, и за ней, похоже, уже темнел лес.
Было светло как днем. Но лунный свет — это не свет солнца, он
голубовато-холоден, безжизнен и загадочен, а тени, им отбрасываемые, черны и
жутки. Вокруг луны мерцала бледная радужная корона, постепенно растворяющаяся в
темноте неба, на котором драгоценными камнями сверкали звезды.
Я ступил на тропинку. На снежной равнине — ни души. Тишину нарушал только скрип
снега под моими ногами. Не будь этого пронзительного скрежета, тишина была бы
просто невероятной.
Зачарованный лунным светом, чистейшей белизной снега, я изредка посматривал на
небо и все дальше удалялся от берега. Прогулка затягивалась, и уже приходила
мысль, что пора возвращаться, когда далеко впереди я заметил какие-то
расплывчатые, светлые, почти сливающиеся со снегом силуэты, быстро
приближающиеся ко мне. По мере приближения они, замедляя бег, стали охватывать
меня полукольцом. Собаки?! Я замер. Зеленоватые горящие глаза, характерный
высокий загривок и мощная, короткая шея не оставляли сомнений — волки. Белые
волки! Я почувствовал, как зашевелились под шапкой волосы, а в сознании, словно
вспышка, мелькнула догадка, страшная в своей безысходности и наготе: «Вот сейчас
ты и досмотришь свой сон».
Кляня себя за то, что вышел на это озеро, я заметался, лихорадочно ища выход из
создавшейся ситуации. Немного впереди тропинка раздваивалась. Я в несколько
прыжков достиг развилки, так и есть — здесь была небольшая утоптанная площадка,
а значит, нет опаски оступиться в глубокий снег. Молнией мелькнуло: на бегу я
только что видел какой-то предмет. Рванулся назад. Вот, палка! Большая суковатая
палка! Схватив ее, я мгновенно вернулся к развилке.
Никогда не забуду это мгновенье — в десятке шагов от меня неподвижно стояли три
волка, фосфорический свет их глаз наводил ужас. В намерениях хищников не
приходилось сомневаться. Вихрь мыслей проносился в моем мозгу. Внезапно самый
крупный из волков, распластавшись в громадном прыжке, бросился на меня, что есть
силы я обрушил палку ему на голову. Удар был страшен и встретил волка в полете —
это спасло мое горло, но не куртку — хищник промахнулся, а его зубы пластанули
рукав, кожа которого с треском была разодрана. И почти сразу же по метнувшейся
сбоку тени я увидел второго зверя. Описав длинную дугу, мое оружие опустилось на
его хребет, но уже другой рукав с тем же треском, почти болезненно пронзившим
мое сознание, превратился в лохмотья.
Позже, пытаясь восстановить в памяти схватку в подробностях, я не смог этого
сделать по той причине, что вряд ли вообще отдавал отчет своим действиям, и даже
не могу сказать, все ли звери нападали или только два, а третий не решился.
Какая-то дьявольская карусель, где перемешалось все: всплески злобного рычания,
остервеневшие оскаленные морды, белый свет луны, белый снег, поразительно белая
шерсть волков — это больше походило на фантасмагорию, чем на реальность.
Боясь подставить им спину, я метался на крохотном снежном пятачке, размахивая
палкой и, видимо, нанес еще три-четыре удара, один из которых пришелся по
переносью зверя, отчего тот, шарахнувшись в сторону, стал заваливаться на бок.
Поединок, по-видимому, длился не более полутора-двух минут, но они показались
мне вечностью. Еще не веря в спасение, я увидел, как волки со вздыбившейся
шерстью, злобно щерясь, уходили прочь. Последний двигался неровно, часто тычась
мордой в снег, и заметно отставал от стаи.
Обессилевший, опираясь на палку, я хватал ртом обжигающий морозный воздух. Я
задыхался. Если б сейчас хотя бы один зверь вернулся — это был бы конец. Еле
переставляя ноги, я брел по белому бесконечному пространству, а впереди,
раскачиваясь и запинаясь, прыгала черная тень — моя тень. Бесстрастная луна,
взирая сверху, все так же разливала колдовской свет. И когда небо вдруг
заполыхало перламутровыми бликами, у меня лишь слабо шевельнулось в мозгу:
сияние… Я поднял отяжелевшую голову — на огромном пространстве небосвода
творилось что-то невообразимое. Это было буйство огней, своей мощью, яркостью,
жуткой красотой поражающее воображение. Но я ощутил полное безразличие. Оно
овладело всем моим существом — я замерзал.
Не помню, как я добрел до гостиницы. Портье, увидев меня, всполошилась. В ответ
я только махнул рукой и, кое-как ухватив закоченевшими пальцами ключ от номера,
стал подниматься по лестнице...
Утром я осмотрел свою меховую кожаную куртку — ремонту она уже не подлежала. Но
самое удивительное заключалось в том, что на мне не было ни единой царапины,
правда, сильно ныло правое плечо. Скорее всего, я растянул его при одном из
ударов. Однако именно толщина куртки и крепость ее кожи помогли мне выстоять
ночью. Я также попытался хоть как-то проанализировать происшедшее, сколь ни
удивительно и неправдоподобно оно выглядело: север, незнакомая местность, ночь,
лес не так уж далеко, мороз, безлюдье — волки могут и быть. Но теперь меня
неотступно преследовал сон двухмесячной давности.
Чудес на свете не бывает? А картина?
В понедельник, уже на заводе, я постарался осторожно что-нибудь выяснить о белых
волках. Ни о чем подобном тут даже не слыхивали. Альбиносы вообще-то в животном
мире явление очень редкое, тем более среди волков, а в данном случае они еще и
собрались в стаю по этому признаку. Да, было от чего прийти в изумление.
Командировка заканчивалась, и перед отъездом я решил побывать на озере еще раз,
и уж, конечно, не ночью. А днем все выглядело совершенно иначе: прозрачное
голубое небо, солнце, висящее над самым горизонтом — кстати, мороз уже ослабел,
и снег скрипел под ногами не так пронзительно. Озеро действительно было велико,
и на другом берегу, на фоне ломаной полосы леса, виднелись домики. Но вот и
развилка. Прошедший накануне снегопад основательно подзасыпал следы. Решив
проверить толщину снежного покрова, я шагнул с тропинки в сторону, провалился в
него почти по пояс и, признаться, почувствовал себя весьма скверно от одной
мысли, что так я мог оступиться неделю назад, и звери тогда расправились бы со
мной в два счета. Выбираясь на тропинку, я зацепился за что-то ногой и вывернул
из снега палку. Поднял ее — та самая. Она походила на трость, правда, имела
немалый вес и чрезвычайную крепость, с аккуратно скругленными выпуклыми,
шишковатыми наростами сучков, отполированная и потемневшая, видимо, от
длительного пользования. Потерял ли кто-то ее тогда тут или бросил, но мне она
подвернулась в ту ночь вовремя. И вот теперь я нашел ее еще раз. Несомненно,
палку делал мастер, сумевший из простого дерева, удалив лишь самую малость и
чуть подправив природу, вырезать оригинальную трость. Я решил забрать палку с
собой в память о том жестоком поединке.
***
По приезду домой я понес картину Кузьмичу — знакомому художнику-реставратору, и
пока он разглядывал ее, вкратце рассказал о том, как она у меня появилась, а
также про сон и про свои сомнения насчет галлюцинаций, умолчав, однако, о случае
в командировке.
Кузьмичу картина явно понравилась, он сидел в глубокой задумчивости, весь уйдя в
созерцание. Вот он крутнулся на стуле-вертушке и взял со стола лупу, после чего,
повернув картину изображением вниз, стал внимательно рассматривать холст с
обратной стороны.
— Холст изготовлен где-то в середине прошлого столетия, — изрек Кузьмич. —
Скорее всего, во Франции. Подрамник… — он отложил лупу и взял тонкий, узкий
резец. Поскоблив им дерево и постучав по нему резцом, прислушался и определил:
— Примерно того же возраста. А вот рама намного моложе и сработана топорно, хотя
и из сандалового дерева. — Кузьмич помолчал, потом перевернул картину:
— Живопись хороша. Сюжет прост, но исполнение и компоновка превосходны, подписи
и даты нет — это ты и сам знаешь. Правда, рябина прописана красным кадмием, а
кадмий такого качества давно вышел из употребления, по крайней мере, я никогда
не встречал его. А уж твои миражи, — Кузьмич прятал усмешку в косматую бороду, —
я тебе, скажу — того... — он покрутил пальцем в воздухе.
Меня очень задела его усмешка. Смейся, смейся, подумал я, но что-то ты скажешь,
когда я поведаю о том, как эти «миражи» чуть не растерзали меня на льду? Но ведь
на месте Кузьмича, пожалуй, и я бы засомневался: картина — перед глазами, и
ничего в ней, кроме изображенного, нет. Какой там призрачный свет и прочее...
Между тем мое внимание переключилось на другое. Неужели картина так стара? И я
решил спросить Кузьмича об этом, однако опасался, как бы он не обиделся на то,
что ему не верят.
— Скажи, пожалуйста, Виктор Кузьмич, как ты определил возраст картины?
Кузьмич вопросу не удивился.
— Практика, — произнес он. — Мне приходилось иметь дело с несколькими вещами,
написанными на подобном холсте, — аналогия полная: льняные нити, скручены туго,
плетение мелкое — фактура своеобразная, к тому же на картинах стояли даты и
имена авторов.
— А подрамник?
— С подрамником проще, — Кузьмич щелкнул ногтем по шляпке гвоздя. — Видишь
гвозди, которыми прибит холст? Они прибиты однажды и навсегда, их никто не
выдергивал и не перебивал. Между прочим, гвозди латунные, и насечка на шляпках у
них редкостная. В наше время таких не найдешь.
В голосе старого художника проскальзывали нотки уважения к временам давно
минувшим.
— Ну а дерево почтенного возраста, — Кузьмич выдержал паузу, — имеет свой цвет и
свой голос.
Ай да мастер! Сколько профессионализма, наблюдательности, знаний...
Но мои мысли снова сделали скачок — луна, ночь, волки. Это было как наваждение.
И я дополнил свое повествование эпизодом про схватку с волками. Кузьмич выслушал
меня очень серьезно и, видимо, весьма заинтересовался таким поворотом дела.
— Я знаю одного человека, по профессии он физик. Давай покажем твою картину ему.
Может быть, он чем-нибудь и поможет нам.
***
В вестибюле института, куда мы с Кузьмичом пришли через несколько дней, физик
нас уже поджидал. Он вручил нам пропуска, и мы на лифте поднялись на четвертый
этаж и прошли в лабораторию. Он усадил Кузьмича в кресло, предложил стул мне и
уселся сам. Попросил у меня картину. Рассматривал он ее недолго, гораздо дольше
был его пытливый изучающий взгляд, остановившийся на моем лице.
— Я знаю вашу историю, Виктор Кузьмич посвятил меня, но хотелось бы услышать еще
раз про ваш сон, а также про то, что произошло позже.
Физик, по-видимому, был еще и тонким психологом и, несомненно, хотел услышать
обо всем из первых уст, может быть, для того, чтобы убедиться в моей искренности
или уяснить что-то для себя, прежде чем взяться за работу.
В продолжение моего рассказа он не проронил ни слова.
Я пересказал все как было.
— М-да. Однако... — физик оценивающе смотрел на меня. — Мне приходилось
встречаться с волками на облаве, но у меня в руках были хорошая двустволка и
жаканы в патронах, тем не менее, я изрядно волновался. Вам невероятно повезло.
«Повезло»… Я слишком хорошо помнил, чего мне стоило это «везение».
Физик закрепил картину на стенде, встал за пульт и выключил свет. Попискивание,
щелчки переключаемых тумблеров, какое-то гудение заполнили пространство
лаборатории. Узкие разноцветные лучи прошили темноту, и несколько пучков света
под разными углами сфокусировалось на холсте. Ничего подобного видеть раньше мне
не доводилось. Живопись оказалась разложенной на спектр. В лесу появились
фиолетовые, голубые, вишневые, коричневые цвета, не говоря уже о зеленом,
представленном массой оттенков; лабиринт паутины переливался брильянтовой
россыпью, а красный цвет рябины рассыпался на совершенно фантастическую палитру.
И сколь ни удивительны были эти феерические превращения красок, мы ждали
другого. Но оно не появлялось.
— Спектральный анализ ничего не дает. Не дал... Значит, надо сделать так… —
физик разговаривал сам с собой.
Подойдя к стенду, он повернул картину обратной стороной, а перед лицевой
поставил черный экран. Щелчок — и на серый невзрачный холст упал только один
луч, но ослепительно белый. Мне показалось, что он состоит из мельчайших
серебристых пылинок. Они бомбардировали холст, выбивая из него микроскопические
облачка вещества, похожего на газ. И тут я четко увидел заснеженное поле и
человека, отбивающегося от зверей. Что-то пугающе знакомое было в его облике…
Черная блестящая куртка! И расклешенные брюки, и шапка-ушанка… Мороз пробежал у
меня по коже — это был я. Впившись глазами в своего двойника, потрясенный
повторением той смертельной схватки, я не сразу заметил в углу дату — Le jenvier
de 1972 année**.
Но мы сейчас находились в феврале 1972 года здесь, в лаборатории. Я ничего не
понимал. Не может этого быть! Картина у меня уже четырнадцать лет. Приобретена
случайно. И где? В Сингапуре. Как я мог попасть на полотно? А дата? И потом,
все, что на ней изображено, действительно произошло.
— Андрей Иваныч, включи свет, — Кузьмич повернулся ко мне. — Ну и ну… Ведь все
как ты рассказывал, кто бы мог подумать. Дату-то видел? Бес его знает, как он до
этого додумался, — я про того, кто писал картину. Шутковал, что ли? Но угадал
ведь, вот что поразительно. А на Севере, дружище, тебе фарт вышел. Молодец!
Ловок ты оказался, отмахался от таких зверей…
Физик, сидя у пульта, слушал Кузьмича, посматривая на меня. Потом подошел к
стенду и снял картину:
— М-да. А поначалу она не произвела на меня впечатления, — он повернулся к нам,
— но в свете того, что узнал, теперь вроде смотришь другими глазами. — Физик
улыбнулся. — Хороша. Нет, не зря вы ее отличили, а потом и купили. Насколько я
наслышан, моряки обычно предпочитают другие вещи. Не так ли? — он взглянул на
меня.
— В общем, да, — согласился я.
Странная апатия овладела мной, как тогда, после схватки с волками. Я больше
ничего не хотел слышать, видеть, отвечать на вопросы — мне надо было побыть
одному. Я не согласился оставить картину и откланялся...
Итак, то, о чем я смутно догадывался, подтвердилось — лесной пейзаж был написан
поверх «белых волков». Непонятные для меня обстоятельства каким-то образом
позволили мне проникнуть в невидимое на холсте. Случай уникальный, безусловно,
но в нем существует какая-то связь с реальностью.
Был ли автор картины фантазер или гениальный провидец? Как он вообразил костюм?
А белое поле, а лунная ночь, а белые волки? А дата, которую он определил с
точностью до месяца и словно в насмешку оставил ее на холсте, это за сто-то с
лишним лет до моих реальных приключений, — наитие или прозорливость?
Значит, я не мог пройти мимо антикварной лавки, как прошли мои товарищи. Не мог
не попасть в командировку зимой и именно в январе. В конце концов, и сон я не
мог забыть.
Строгая последовательность событий наводит на мысль, что все в нашей жизни
предопределено, всякая случайность — это звено в цепи закономерностей.
Я шел по улице, пригревало солнце. Кое-где начинал подтаивать снежок. Еще не
весна, но чувствовалось, что она уже не за горами. Апатия сменилась грустью.
Мысли уносились в прошлое. Море, как когда-то, властно звало к себе. Я вновь
видел пальмы, жаркие улицы Сингапура, старого китайца. Я вновь восхищался алой
веткой рябины в мрачном лесу. Видения наслаивались одно на другое, мелькали в
сознании, причудливо переплетаясь: Кузьмич и дотоле незнакомый Андрей Иванович,
безвестный художник, написавший картину. Не он ли самое загадочное лицо в этой
истории? И был ли он один? Лесной пейзаж наверняка дело рук уже другого. И
почему этот другой записал работу первого? А как картина оказалась на краю света
в Сингапуре? Она нашла меня или я ее? И не в ней ли оказалось мое спасение на
озере? Ибо я, уже дважды столкнувшись с волками сначала во сне, а потом на
картине, внутренне, еще не осознавая, был готов к встрече и в третий раз. Так,
наверное, бывает. Но еще и везение: трость вовремя попалась, и развилка тропинок
помогла, да круглолицая красавица-луна, холодная, но неравнодушная (что бы я без
нее в черноте ночи?), — всё на благо. Как говорили древние: желающего судьба
ведет, а нежелающего тащит. Меня, по-видимому, вела. А может, это я вел ее. Что
бы она без меня? И опять обращение к древним: «Человек — мера всех вещей».
Мудрые были древние, а мы еще мудрее, потому что берем у них опыт и знания. И с
этим живем. И никогда не остановимся.
Я шел и улыбался про себя•
* Хорошо (кит.).
** Январь 1972 года (франц.)
|
|
 |
|
 |
|