|
|
|
|
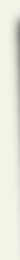 |

|
|
|
Родился я в 1951 году на севере Свердловской области. Мои родители были
раскулачены и сосланы из Крыма на Урал в 1930 году. В семье нас, детей, было
восемь. Окончил лесотехнический техникум, Высшую партийную школу при ЦК КПСС —
факультет журналистики. Служил на китайской границе в Читинской области. Работал
инженером в леспромхозе, инструктором Советского райкома КПСС в Тюменской
области, журналистом в районной газете «Путь Октября». Последние двадцать лет —
директором Советской типографии. Сейчас на пенсии. Женат. Есть сын и дочь. Еще в
техникуме начал писать. Вначале в газету, затем — для души, в стол.
Вольные дети с улицы Победы
Плата за верность
Передо мной дело № 31245 по обвинению Барановой Екатерины Ивановны по статье
58-6 УК РСФСР. Она была арестована как агент германской разведки Надеждинским
(ныне Серовским) городским НКВД Свердловской области.
Это моя родная бабушка. Наконец-то стал известен последний этап ее трагической
судьбы — с 18 декабря 1937 года по 14 января 1938 года. Ее арестом занимался
оперуполномоченный третьего отделения управления НКВД города Надеждинска Иванов
(имя и отчество его почему-то не указаны), а «особая тройка» ГУГБ НКВД осудила
по статье № 58-6 УК, приговорив к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор
был приведен в исполнение 14 января 1938 года согласно протоколу № 168.
В состав «особой тройки» входили начальник УП НКВД по Свердловской области
комиссар госбезопасности третьего ранга Дмитриев, прокурор УРПАЛВО бригадный
военный юрист Петровский и начальник Надеждинского ГО НКВД старший лейтенант
Трубачев.
Так закончились 28 мучительных дней и ночей Екатерины Ивановны Барановой. Я
пытаюсь представить, что она думала в это время, как себя вела, что говорила на
допросах на самом деле. Протокол утверждает, что она созналась в своей шпионской
деятельности в пользу Германии. А ее вина лишь в том, что она не отказалась от
мужа, расстрелянного в 1924 году якобы за участие в контрреволюционном мятеже в
Крыму. От ее имени подробно излагается, как она тайно встречается с резидентом
германской разведки, получает от него задания. Началось это будто еще в Крыму до
раскулачивания, а затем уже на Урале этот агент разыскал ее и дал задание
поджигать лес, вести антисоветскую агитацию.
Этот бред подписан и отправлен в папку с делом.
Основанием для высшей меры наказания послужили такие строки:
«До моего ареста и высылки на Урал я выполняла ряд поручений даваемых мне, (вымарано
чернилами имя резидента Германской разведки) контрреволюционного характера.
Он часто говорил, когда мы встречались, что задания, которые я выполняю, даются
немецкой разведкой, и я выполнять их должна осторожно и аккуратно. В одном из
разговоров он мне сказал, что он начинал с 1925 года находиться на связи с одним
известным немецким разведчиком Джековым. Когда в 1930 г. меня выслали на Урал у
меня с (опять вымарано чернилами имя) встречи временно прекратились,
стала вести переписку с 1931 г. как я уже сказала до 1935 г. А он до 1935 года
проживал в Крымской АССР, а с 1932 года уехал в Германию, а затем в Швейцарию.
Из Швейцарии мне писал письма, посылал денежные переводы (это в тайгу, что ли,
на высылку?). И так до 1935 года. Затем временно связь у меня с ним прервалась,
и причины мне неизвестны, почему он перестал писать и отвечать на мои письма.
По прибытию в ссылку Надеждинского района в пос. Пасынки 1934 г. познакомилась и
близко сошлась с немкой Розой (фамилия опять вымарана), которая оказалась
посыльной моего знакомого. У нас с ней были длинные и частые беседы на
контрреволюционные темы, всячески выражая свое недовольство и озлобление против
Советской власти, руководителей ВКПБ и Советского правительства. Часто сходились
во мнениях о необходимости вести борьбу с Советской властью, путем
насильственного свержения Советской власти, причем Роза обращала мое внимание,
что в этом деле поможет ее родная страна — гитлеровская Германия и которой мы
должны помогать. Я уже помогала практически: по заданию германской разведки
совершила три поджога лесных массивов на территории Сосьвинского леспромхоза, в
результате чего выгорела большая площадь строевого леса. Об этом я сказала
Эльвейн (наконец-то фамилию Розы следователь не вымарал, видимо, просмотрел).
После чего предложила быть у нее на связи и выполнять ее поручения. На что я
дала согласие» (здесь и далее в текстах приводимых документов сохранены
стиль, орфография и пунктуация оригинала — Б. К.).
Так и представляю: сидят две женщины в таежном Богом забытом поселке и планируют
убить Сталина, Калинина, свергнуть Советскую власть. И все это в пятидесяти
километрах от Серова, в пятистах километрах от Свердловска и более чем в двух
тысячах километров от Москвы. Это ж как надо было издеваться над человеком,
чтобы вынудить его подписать такой бред! Да, мне рассказывали, как этого
добиваются. Например, натягивают на голое тело резиновую рубаху и ставят на
солнцепек. Рубаха нагревается, и через некоторое время человек в состоянии
адских мук подписывает все, что ему подсовывают.
Вернемся к протоколу:
«Вопрос: Укажите, какие поручения Вы получали от агентов немецкой разведки.
Ответ: Вести контрреволюционную агитацию против Советской власти. Распространять
всяческую клевету по адресу Советской власти… Совершать диверсии… чтобы всячески
подорвать мощь Советского Союза.
Вопрос: Вы практически выполняли даваемые Вам поручения?
Ответ: Да, я практически выполняла даваемые поручения.
Вопрос: Укажите конкретные факты Вашей практической деятельности, как агента
немецкой разведки.
Ответ: Фактов было много и я их все не припомню…»
На этом можно было бы поставить точку, ведь сейчас всем известно, что такие дела
фабриковались тысячами. Однако приведу еще несколько знаменательных дат из
последних дней жизни бабушки. 18 декабря 1937 года ее арестовывают в поселке
Перерождение и привозят в тюрьму Надеждинска (Серова). 20 декабря ее перевозят в
Нижнетагильскую тюрьму. 8 января 1938 года она уже в Свердловской тюрьме. 14
января 1938 года расстреляна.
На автомобильной трассе Свердловск — Ревда сейчас стоит обелиск в память о
жертвах политических репрессий. Среди тысяч имен можно прочесть: Баранова
Екатерина Ивановна, годы жизни — 1881—1938. Это моя бабушка.
Обелиск постоянно утопает в букетах цветов. Здесь всегда много народу. Люди
стоят, обнажив головы. О чем они думают?
Гонимые властью
Я читаю документы Государственного архива автономной республики Крым,
направленные в Феодосийскую городскую комиссию по вопросам восстановления прав
реабилитированных. Там — история жизни моих родителей, дедов, бабушек,
раскулаченных и сосланных как враги народа на Урал. Там я узнал, каким
«богатством» они владели.
Как следует из протокола № 41 заседания КрымЦИК от 25 марта 1930 года, «Баранова
Екатерина Ивановна была лишена избирательных прав на основании пункта «П» статьи
15 Инструкции ВЦИК о выборах, как находящаяся в материальной зависимости от
лица, лишенного избирательных прав». В переводе с канцелярского языка на
обыкновенный это означало, что она виновна в том, что была женой «Баранова
Дмитрия Митрофановича [моего деда по материнской линии], которого расстреляли в
1924 году за участие в контрреволюционном движении». Моя бабка не отказалась от
мужа (как по тем правилам полагалось), за что и была выслана на основании
решения общего собрания деревни на Урал. Было это в 1930 году. Отправили ее
вместе с детьми: сыновьями Павлом 19-ти лет, Митрофаном 16-ти лет, Дмитрием
15-ти лет и дочерью Марией 18-ти лет (это была моя мать). При этом имущество
семьи было конфисковано в неделимый капитал колхоза: «...земли 13,75 сажен,
фруктовый сад 0,8 гектара, две лошади, две коровы, одна свиноматка, один плуг,
один буккер, одна лобогрейка, одна бричка».
Екатерина Ивановна провела в ссылке семь лет и была расстреляна в Екатеринбурге.
Оказывается, важным поводом для обвинения послужила посылка с детскими вещами,
отправленная на ее имя от Международного общества Красного Креста.
Другая моя бабушка по линии отца, Карташова Пелагея Яковлевна, была лишена
избирательных прав на основании пункта «А» статьи 14 Инструкции ВЦИК о выборах
«как применявшая наемный труд с целью извлечения прибыли». Она без вести сгинула
в 1930 году, когда ее забрали работники ГПУ. Ей было 50 лет.
Баранов Дмитрий Митрофанович, участник Первой мировой войны, в 1915 году попал в
плен. Находился на территории Австро-Венгрии два года. Состоял в гражданском
браке с подданной Австро-Венгерской империи Анной-Марией (фамилия неизвестна),
там у него родились две дочери. В 1918 году по настоянию гражданской жены
вернулся к законной семье в Крым. «...Здесь двое детей, там — четверо. Ты нужнее
в России...», — якобы сказала Анна-Мария. Вернулся на родину. В 1924-м его
расстреляли как участника антисоветского заговора. В книге «Заговоры против
Советской власти» есть пояснение, что этот «заговор» под руководством
председателя ЦИК Крыма был сфабрикован ГПУ в ходе внутрипартийных разборок.
Карташов Федот Иванович. В выписке из протокола № 177 Центральной комиссии при
КрымЦИКе от 11 июня 1930 года сказано: «...Карташов Федот Иванович 59 лет лишен
избирательных прав на основании пункта «А» статьи 14 Инструкции ВЦИК о выборах,
как применявший наемный труд с целью извлечения прибыли. Состав семьи — жена
Карташова Пелагея Яковлевна и сын Карташов Пантелей Федотович 1906 года рождения
(мой отец — Б. К.). Имущественное положение: три коровы, три лошади, два вола,
15 овец и четыре улья, собственной земли свыше 400 десятин...»
Надо сказать, что и этот мой дед воевал на Империалистической войне и тоже попал
в плен, где провел три года. Мой отец вспоминал, что деда отличали громадные
усы, которые на ночь он закладывал за уши и обвязывал повязкой.
— У Буденного куда меньше были... — говорил отец.
Федот Иванович не был сослан на Урал. Его арестовали в Крыму в 1930 году. В
тюрьме он умер якобы от воспаления легких.
В ссылку попал только мой отец — Пантелей Федотович, который прожил 84 года. Он
сумел не только выжить, но и создать семью, вырастить восьмерых детей. Умер в
1990 году, так и не узнав о том, что позже, всего через год, будет оправдан по
вердикту комиссии в соответствии со ст. 3 Закона Украинской ССР «О реабилитации
жертв политических репрессий на Украине» от 17 апреля 1991 года.
Вместе с мамой на Урал сослали и двух братьев, Павла и Дмитрия. Дядя Павел всю
жизнь проработал на шпалорезке. Умер в 60 лет за два дня до получения своей
первой пенсии. Дядя Митя получил звание стахановца на Серовском металлургическом
комбинате в конце 1930-х годов, в 1942—1943 годах воевал на фронтах Великой
Отечественной, был ранен, награжден орденами и медалями. Умер скоропостижно в
возрасте 75 лет, когда ехал на похороны моего отца в соседнюю деревню.
Дядя Митрофан сбежал из ссылки и всю жизнь скрывался в Крыму. Вначале от
Советской власти — как раскулаченный, затем от немцев в годы Великой
Отечественной войны. Потом опять от власти, так как был на территории,
оккупированной фашистами, — бегал до самой смерти. Работал сторожем на дальней
бахче. Все местные знали его судьбу, но не выдали.
Мама, Мария Дмитриевна, святая женщина, родила и воспитала нас — восьмерых
детей. Вся ее жизнь была в нас. Уже в пожилом возрасте она говорила: «Еще
неизвестно, что лучше — остаться в Крыму или здесь прожить, на Урале. Здесь хоть
вы все со мной, значит, прожила жизнь не зря. А останься там — Бог знает, как бы
сложилась жизнь...» Она умерла в возрасте 72 лет 8 марта 1983 года, в день
годовщины ее золотой свадьбы. Тогда шел обильный снег...
Спецнаселение «двадцатого»
— Мама, ну когда наступит зима и выпадет снег? — нетерпеливо дергал я мамину
руку.
— Скоро, скоро, сынок, еще несколько дней…
Как я ждал этого момента! Всю землю укутает белое, пушистое покрывало. Вначале
можно будет лепить снежную бабу, затем Новый год, елка — мой любимый праздник,
наконец, катание на лыжах — красота! И вот через несколько дней мама сказала:
— Однако, завтра снег выпадет.
Я взглянул на часы — было пять дня. Как долго ждать! И тут же мелькнула мысль:
если я рано лягу в кровать и крепко усну, то, наверно, когда проснусь, будет уже
завтра. И забрался под одеяло.
— Не заболел ли? — забеспокоился отец.
— Нет, — ответила мама, — это он первый снег очень ждет.
Проснулся, а в доме темно, на улице тоже. Прильнул к окну — ничего не видно. Но
чувствую, что-то должно произойти. Однако сон вновь сморил меня. Утром первым
делом к окну. Ура! Вся земля в снегу. Одевшись, быстро выскочил на улицу. Снег
лежал тонким слоем. То здесь, то там проступали темные пятна земли. Но все равно
— зима пришла.
Это одно из ярчайших моих воспоминаний о детстве, о месте, где я родился. О
поселке. Вначале тут жили раскулаченные, затем добавились репатриированные, те,
кто был в оккупации под немцами, позже — «вербованные», те, кто по оргнабору
государства бросали свои родные деревни в Белоруссии и на Украине и приезжали
валить лес для Родины, чтобы жить получше. Еще позже появлялись и политические,
кто шел по ленинградскому делу и делу военных. Поселок тогда не имел названия.
Даже это было не позволено. Он назывался просто: «220-й квартал». Название было
написано известкой на конторе лесопункта — главного предприятия в поселке.
Леспромхоз назывался «Сотринский». Он объединял несколько населенных пунктов:
железнодорожную станцию «Сотрино» (в 40 км от Серова), поселки Первомайский,
Ивановский и наш — «220-й квартал», который со временем стали называть просто
«Двадцатый».
Поселок состоял из «микрорайонов» — лесозавода, центра, заречья. Понятно, что
лесозаводские работали на переработке древесины, центровые кучковались вокруг
клуба, школы, больницы, конторы лесопункта. Центральную и единственную дорогу
«Двадцатого» на окраине пересекала речка Куликовская. Отец рассказывал, что
когда-то на ее берегу жил мужик по фамилии Куликовский.
Основными занятиями людей здесь были лесозаготовка и лесопиление. Была еще
узкоколейная дорога, по которой вывозили хлысты. Был конный двор с тридцатью
лошадьми. Их в пятидесятые годы использовали при вывозке леса, а в шестидесятые
на них возили бочки с водой в школу, детсад, столовую, пахали огороды,
доставляли сено с покосов.
В поселке были спортивная площадка, клуб и четырнадцать бараков, в которых жили
те, кто недавно приехал и пока не обзавелся собственным домом, а также бывшие
зеки, неженатые, молодые ребята и девушки. Причем каждый номер барака определял
не только то, кто там живет, но и каково его социальное положение. С первого по
четвертый барак — это женщины с детьми, незамужние, высланные за аморальное
поведение из больших городов. Они поселились вокруг лесозавода. В пятом —
восьмом бараках жили семьи, которые вот-вот должны были получить казенное
отдельное жилье (дома на два, четыре хозяина) или строили собственное. Девятый
барак был особый — жили в нем холостые ребята и девушки. Здесь селились молодые
специалисты из ремесленного, педагогического и медицинского училищ Серова.
Находились они там, как правило, недолго. Женились, выходили замуж, меняя
«общагу» на более цивильное жилье. Редко кто уезжал из поселка. Может быть,
потому, что в те времена и в их родных деревнях и селах было несладко. Десятый —
четырнадцатый бараки были предназначены для бывших зеков, коих приезжало немало,
и просто для «лихих» людей. Туда редко кто захаживал в гости. Драки, пьянки,
поножовщина...
Однажды бывшие зеки забили насмерть моряка, пришедшего в отпуск. И терпению
людей пришел конец. Собрались тогда 60—70 взрослых женатых мужиков, вооружились
кольями, железными прутьями и ночью ворвались в четырнадцатый барак. Били
смертным боем. Когда барачные поняли, что их всерьез убивают, кинулись, кто в
чем, в сторону железной дороги. Гнали их уже из всех пяти бараков. Кто-то
сообщил об этом начальству (милиции у нас не было). К вокзалу быстро подогнали
несколько товарных вагонов и увезли зеков в город (так называли Серов).
Случилось это в середине пятидесятых. С тех пор ни один вновь прибывший на
работу к нам зек, услышав историю про четырнадцатый барак, не смел вести себя
вызывающе, да и местные ребята прямо на вокзале кулаками доказывали, кто хозяин
в поселке.
Законы лесной жизни
В 1947 году Сотринский леспромхоз открыл в «Двадцатом квартале» новый лесопункт.
Туда после ликвидации комендатуры НКВД наша семья (уже не спецпереселенцев, а
свободная) переехала на новое место жительства. Отныне не надо было каждый вечер
отмечаться у местного чекиста, что ты дома — не сбежал и ничего не натворил
против закона.
Надо сказать, что с 1930-го по 1947-й годы мои родители четыре раза меняли место
жительства. Отнюдь не по своему желанию.
Отец рассказывал, что первый раз привезли его в тайгу километров за 15—20 от
железной дороги Свердловск — Серов где-то в районе Верхотурья. Уже через неделю
приказали заготовлять древесину — по шесть кубометров на человека в день. Причем
дерево надо было свалить, очистить от сучков, раскряжевать на шестиметровые
бревна и сложить в штабель. Только тогда выдавалась суточная пайка еды. Не
выполнил норму — оставайся голодным.
Всю неделю рыли землянки, строили шалаши. Шел декабрь, надо было выживать. Жизнь
«врагов народа», кулаков ничего не стоила. Их каждый мог унизить и оскорбить. В
1935 году в поселок пригнали людей из Ленинграда. Одну женщину с девочкой
поселили в комнату рядом с той, где жили родители. Встречаясь с мамой,
ленинградка обязательно называла ее «кулачкой». Мама не вытерпела однажды и
отпарировала:
— А ты Кирова убила.
Женщина опешила, испуганно заплакала. Потом они помирились. В 1938 году ее
навсегда забрали люди в военном. А девочка осталась с «кулачкой» и жила с моими
будущими родителями два года, пока не определили ее в детский дом.
Вместе с раскулаченными в поселок с Украины приехали, как говорил папка,
«хохлы». Они сразу отказались валить лес, мотивируя тем, что они хлеборобы и не
умеют работать на лесосеке. Они жгли костры, питались тем, что привезли с собой,
но вскоре еда кончилась, они стали пухнуть с голоду, ослабели до того, что не
могли вставать. Мороз заканчивал дело. Каждое утро несколько трупов «актировали»
и куда-то увозили.
— Хорошо, что мы с мамой еще не поженились, и детей не было, — говорил отец, — а
вот у других и дети умирали.
С неимоверными усилиями и трудностями поселение все-таки возрождалось. Весной
раскорчевали лес, посадили картошку, построили бараки, появилась живность. Через
три года это был уже крепкий поселок со своей инфраструктурой. Тяжело, но жить
можно. Однако как только власть это замечала, тут же отдавался приказ осваивать
новое место, и обязательно километров за 30—50 от прежнего в глубь тайги. Все
повторялось заново. Только уже имелся опыт, и дела на новом месте шли быстрее.
Раскулаченные были особым контингентом. Их выселяли с лишением гражданских прав.
И на торжественных собраниях в леспромхозе по поводу красных дат Советской
власти председательствующий всегда говорил: «Лишенных гражданских прав прошу
покинуть зал». Мать вставала и уходила, с ней уходили и мы. Вслед шипели:
— Кулачье проклятое.
Это кончилось тогда, когда власть решила, что мы стали лояльны к ней. Родителей
восстановили в правах, мы, как и все, считались полноправными гражданами. Однако
мама на эти общественные торжества уже не ходила.
Нас перестали гонять осваивать новые места. Власть милостиво разрешила жить там,
где мы желали. А желали мы жить в «Двадцатом», который позднее стал называться
Печеневка, потом — Боровой. Сейчас это Богом забытый уголок без всякого
производства, где доживают свой век старики.
Итак, главными задачами «Двадцатого» были заготовка леса и частичная его
переработка. В лесосеках вначале валили лес поперечной пилой, затем лучковой.
Кстати, лучковая в свое время сделала революцию на заготовке. По сравнению с
поперечной (с которой управлялось два человека) она увеличила производительность
в два раза.
Бригад тогда не было, и каждый трудился в узком своем деле — сучкоруб, вальщик,
помощник вальщика, огребщик снега… И, соответственно, зарплату каждый получал
независимо от другого.
Так вот, всех больше зарабатывал вальщик. Один из них по фамилии Чабан таскал
деньги в полевом планшете с собой на работу. Было там несколько десятков тысяч
рублей. Он прятал сумку под кустом и забывал, где. Потом искали все, кто мог.
Находили, а он в знак благодарности делился выпивкой с мужиками. А когда спал,
сумку под голову клал — так надежнее… А большинство старалось всячески угодить
начальству, чтобы можно было выбрать для валки «кубатурнее» дерево.
Позже появились электропилы и бензопилы. Трелевали лес, то есть вывозили с делян
и укладывали в штабеля вначале с помощью лошадей, потом лебедками, первыми
газогенераторными тракторами.
Зимой вывозили по «ледянке». Это дорога, которую поливали водой. Посредине
делалось углубление шириной сантиметров 30—40 и глубиной до 20. На однополозные
сани накладывались бревна, и лошадка тянула воз в поселок. Там он либо
отгружался в вагоны МПС, либо разделывался на доски, шпалы, тарную дощечку и
прочее. В вагоны бревна тоже грузили с помощью лошадей. С годами их заменили
лебедками и кранами.
Спустя время от «ледянок» отказались. Стали строить узкоколейные железные дороги
и «лежневки» — деревянные тротуары, по которым на автомашинах вывозили хлысты. А
потом по узкоколейке на паровозах, мотовозах в специально оборудованных
турникетах.
Об удовольствиях довольствия
В поселке проживало около трех тысяч человек, которые по тому времени были
обеспечены необходимыми социальными удобствами. Работали детские сады, школа,
клуб. Были баня, водокачка, магазины, пожарная часть, рабочая столовая.
Насчет столовой. Ее основной контингент составляли «вербованные», зеки, холостые
парни и девки — те, у кого не было постоянного угла. Местные в столовой не
питались — дома жены готовили. Столовая открывалась в пять утра, потому что по
УЖД вагончики с рабочими уезжали на деляны в половине седьмого. В четыре утра же
по «Двадцатому» раздавался заводской гудок — будил всех на работу. Заведовал
тогда столовой молдаванин по фамилии Слободян. В столовую приходили кто
позавтракать, кто взять с собой «тормозок» в лес.
Нам, малолеткам, всегда хотелось что-нибудь попробовать в столовой, хотя дома
готовили лучше. Скорее всего, нас прельщал ритуал заказа. Вначале надо было
изучить меню, затем буфетчице сказать, что желаешь. Обычно это была мясная
котлета с картофельным пюре и компот. Буфетчица все записывала на бумажке. С
этой бумажкой заказчик подходил к раздаче. Затем все чинно сидели за столом,
поглощая еду, слушая разговоры поварих и взрослых посетителей…
Шло время, и ребята, достигшие 12—13 лет, на летние каникулы устраивались на
взрослую работу. Рассыльный — мальчик на побегушках при начальнике лесопункта.
Можно было поработать и телефонистом на коммутаторе, слесарем на нижнем складе,
«на дорожке» — ремонтировать УЖД.
Помню, получил первую зарплату: что-то около 60 рублей. С какой радостью я нес
ее домой! Казалось, что весь «Двадцатый» смотрит и гордится мною — как же,
добытчик в семье. Дома не знал, куда их девать. Предложил маме, а та в ответ:
— Ты же их заработал, куда хочешь, туда и девай.
В конце концов мы всей семьей собрались за столом на кухне и стали думать, на
что потратить мою первую зарплату. Решили купить мне лыжный костюм и китайские
кеды (тогда это был шик моды). Пять рублей я истратил на угощение своих друзей:
накупил пастилы, халвы и пряников. В лесу развели костер, кипятили чай и
«пировали» со сладостями. Было мне тогда 13 лет.
На тропе знаний
С особым чувством хочу рассказать о нашей знаменитой школе. Вначале она была
четырехлеткой, затем семи- и восьмилетней. У школы было два здания. В старом
учились с первого по четвертый классы. В новом — с пятого по восьмой.
Со школой я познакомился раньше своего учения. Пятилетний, я приходил в класс к
братьям. Они упрашивали учительницу оставить меня на занятиях. Она давала мне
бумагу, карандаш, и в свободном творческом порыве на листе бумаги я выводил
какие-то каракули, рисунки. Главное было, что черкал все, что хотел.
Потом раздавался звонок на перемену. В коридоре я смотрел, как старшеклассники
играют в чехарду. Это была игра, когда один человек становился на четвереньки,
следующий с разбегу прыгал ему на спину, затем третий, четвертый, пока очередной
прыгун не сваливался с этой живой кучи. Тогда он сам становился на четвереньки,
и все повторялось сначала.
Самые старшие уходили на улицу «подымить». Кто-то тайно играл в «пристенок» —
монеткой били о стенку, второй игрок должен был ударить монеткой так, чтобы
упала рядом с первой не далее, чем на расстояние вытянутых пальцев — большого и
мизинца. В этом случае выигрыш забирал соперник. Были и другие игры.
И вот я первоклассник. В школу пошел второго сентября, едва оправившись от
болезни. И первое, что сделал, придя в класс, — перепрыгнул через парту. Это
считалось страшным нарушением дисциплины. Тогда долго беседовала со мной моя
первая учительница Нина Арсентьевна. Может быть, именно в тот момент я и
научился, опустив голову, тупо бубнить «Я больше не буду», не понимая, что
плохого сделал.
За свои школьные годы таких обещаний по различным проступкам я накопил несметное
количество. И директору школы, и участковому инспектору милиции, и матери, да уж
не помню и кому.
Учился я неплохо. Восемь классов закончил на «хорошо» и «отлично». Если бы не
старый хвост!.. Дело в том, что я пел и, как говорили, неплохо. Но пришла новая
учительница. Что-то ей во мне тогда не понравилось, и, поставив в журнале жирную
«двойку», она выгнала меня из класса. Вскоре эта учительница уволилась, и пения
больше не было. А поскольку двойка была моей единственной оценкой, то в
свидетельство о восьмилетнем образовании записали «удовлетворительно».
Помню еще один горький день — когда принимали в октябрята. Я очень волновался.
Тогда еще не делали значков с изображением кудрявого мальчика. Мама сама
вырезала из картона пятиконечную звезду и обтянула ее красной тканью. Я так
гордился звездочкой, пришитой к моей гимнастерке. Но пионервожатая увидела меня
и сказала:
— Кулачат не принимаем, — и сорвала звездочку.
Горе было неподъемное. Я никак не мог понять: почему? Дома родители тоже ничего
не объяснили, сказали «потом поймешь». Так продолжалось неделю или две. Затем на
урок в класс пришла директор школы, вызвала меня к доске и вручила звездочку
октябренка. Вот такая история.
Позже приняли в пионеры. В комсомол я уже сам вступать не стал, да еще отговорил
ребят. Так что в нашем классе оказалось всего четыре комсомольца. Никакой
реакции не последовало. Вскоре мы окончили школу и разъехались.
Только пять лет спустя перед уходом в армию мне все-таки выписали комсомольский
билет, который, кстати, хранится у меня до сих пор…
Помню, кто-то принес в класс запрещенный тогда сборник стихов Сергея Есенина.
Боже, как мы зачитывались:
…ты сама под ласками
сбросишь шелк фаты,
унесу я пьяную
до утра в кусты…
«Сплошная аморальщина», — заявила на педсовете тогдашняя учительница русского
языка и литературы. И это человек, который жил во времена Есенина! Она хорошо
была воспитана Советской властью. В результате книга была изъята. По всем
старшим классам прошли собрания, осуждающие кулацкого поэта-пьяницу.
Но педагогический костяк составляли люди, приехавшие сюда по воле власти, то
есть принудительно. Они пережили войну, репрессии и вели себя соответственно.
Мы, дети «Двадцатого», пронесли добрую память о них через всю жизнь. Это
бессменный завуч школы Мария Павловна Томилова. Василий Васильевич Калеганов
(кличка Вась-Вась). Федор Анатольевич — учитель рисования. Все его звали Федор
Большое Ухо — на фронте он был контужен и плохо слышал. Алевтина Федоровна
Дружинина — директор школы («Альфа»), Тамара Васильевна — математик («Швабра»)
и, наконец, мой классный руководитель, удивительной душевности человек — Нина
Александровна Рожко. Она научила меня понимать и любить русскую литературу, дала
первые правдивые представления о великих поэтах и писателях.
Жаль, что после нашего выпуска Нину Александровну уволили из школы за
«непедагогичные» методы воспитания. Это и «сборища» у нее на квартире, где пекли
хворост и читали Блока, Есенина, Ахматову, это и походы с ночевкой на реку
Сосьву, и независимые высказывания на педсоветах.
Игра — суровый опыт
Никакое воспитание не могло повлиять на наши негласные уличные законы, на
правила мальчишеского братства. Курить пробовали лет в шесть-семь, пить брагу —
лет с девяти-десяти. Благо, ее готовили почти все жители поселка. В карты играли
еще дошколятами. Улица учила нас жить жестоко, по нашим понятиям кодекса чести.
«Лесозаводские» играли в своем районе или на отвалах опилок. За ягодами,
грибами, кедровыми орехами они ходили в «свою сторону». У нас, «центральных»,
были свои угодья — район кладбища и вдоль железной дороги на Ивановск.
«Зареченские» же, соответственно, вдоль узкоклейки.
Главной у всех была игра в «наших и не наших», потом в «войну» и «шпионов».
Правил никаких не было. Просто команды сходились периодически в рукопашных
схватках. Готовились деревянные мечи, гранаты, конструировался даже пулемет,
изучалась азбука Морзе. Придумывались пароли, которые даже под страхом быть
отколоченным противником, получив «бланш» под глаз или разбив нос до крови,
нельзя было сообщать «врагу». Тот, кто проболтался, становился вечным предателем
и изгоем.
Для «выбивания» пароля существовала особая «пытка». В опиле выкапывалась яма, и
туда помещали «врага», засыпая его по плечи. Температура в такой яме была 60—70
градусов — так нагревался пролежавший несколько лет в куче опил. Бывало, пацанов
с ожогами приводили домой…
Однажды притащили обрез охотничьего ружья: сначала стреляли из патронов, затем
кто-то догадался снять ствол и попробовать ставить на боек капсюль «жевело» —
при нажатии на курок его разрывало на кусочки, а звук выстрела был слабый (чтобы
не слышали чужие). Витька Юркевич, как обычно, поставил капсюль (была его
очередь стрелять) и спустил курок. Осколок капсюля попал ему в глаз. Витьку
отвели в больницу, строго-настрого наказав ему ни в коем случае не сознаваться,
где получил травму. Глаз удалось спасти, а вот обрез, разобранный на части, до
сих пор покоится в болоте у речки Куликовская.
Для меня «война» закончилась тоже ранением. В то время мы донашивали старую
воинскую форму. Мне нравилось звание «гвардии капитан», хотя я плохо разбирался
в этом. На черную шинель, которая была выдана старшему брату еще в ремесленном
училище, мама пришила голубые погоны с четырьмя звездочками. В ней и с зеленой
пограничной фуражкой на голове я явился в «штаб». Под шинелью на гимнастерке
красовались два ордена «Материнская слава» первой и второй степени — мамины
награды.
Кто-то притащил пачку дымного пороха и, заряжая «поджиг», просыпал его на
пеньке. Возник вопрос: кто подожжет? А кто кроме меня — ведь «гвардии капитан»,
да еще с орденами. Чиркнул спичкой и… очнулся лежащим рядом с пеньком. Сильно
болело лицо. Вокруг меня суетились ребята, пытаясь помочь. Глаза ничего не
видели, все лицо было черным (порох-то был дымным). Кто-то умыл меня водой из
лужи. Сразу же местами стала слезать кожа. «Гвардии капитана», «дважды
орденоносца» повели в поселковую больницу.
Санитарка, моя родная тетя, раздевая, полюбопытствовала:
— Чей же ты, мальчик?
Я пальцами раздвинул опухшие веки, увидев тетю Клаву, ответил:
— Ты что, тетя Клава, не узнаешь, что ли?
Та упала в обморок.
По «Двадцатому» уже гуляли слухи: «Борьке Карташову глаза выбило, видимо, что-то
взорвалось или из «поджига».
Как-то незаметно у кровати оказались все братья и сестры во главе с мамой.
Чувствуя их присутствие, я сказал:
— Все нормально, мам, я вижу.
В ответ услышал только вздох.
Что было с мамой! Ведь совсем недавно Славка (один из старших братьев) стрелял
из «поджига»: ему почти оторвало большой палец на правой руке. Врачи палец
пришили. А еще до этого наши двойняшки Колька и Вовка испытывали самодельный
автомат. Только чудо спасло их. Изделие разорвало на куски. А Ваньке Ухнылеву из
Ивановска оторвало кисть руки — пытался взорвать капсюль с бикфордовым шнуром.
Так обычно взрывают пеньки в лесу, это называется «осмол».
Мама осталась со мной, беспрестанно всю ночь меняя марлевые повязки, давая
лекарство и воду. К утру я заснул…
За две недели лежания на больничной койке пузыри полопались, наросла новая кожа,
обновились брови и ресницы. В общем, пронесло. Больше я в войну не играл.
Мы взрослели, и увлечения менялись. Компании без девчонок уже не мыслились. Мы
учились дружить с ними, писали записки, при встрече вздыхали. И, что интересно,
у нас и мыслей не было, как сейчас говорят, о сексе. Вернее, конечно, были, но
где-то там, далеко-далеко, так что даже себе признаться боялись. Первый поцелуй
был пределом храбрости и доказательства любви. Все было целомудренно. И этому
тоже научила, как ни странно, Улица.
Как отдыхал «интернационал»
И у нас, на «Двадцатом», были праздники. Первое мая, Пасха, Седьмое ноября —
общие. А Новый год был семейным праздником. Но после «домашней» встречи все шли
в клуб, где веселье длилось до утра.
Компании собирались в барачных комнатах, домах. Затем весь барак перебирался к
кому-то одному, потом к другому — из дома в дом. Наконец вся улица оказывалась в
одном месте. Брага и самогон лились рекой. Закуска — квашеная капуста, соленые
огурцы, грибы, жареная или вареная картошка. Кто побогаче — выставлял отварное
мясо или котлеты, холодец.
Ближе к вечеру по поселку раздавались крики, шум, мат и женский визг. Из
какого-то дома или барака вываливалась пьяная толпа, где обязательно был некто,
у кого до пупа была разорвана рубаха или майка, лицо было в крови. Толпа уже
плохо помнила, кто, кому и за что въехал в рожу. Однако в финале битыми
оказывались, как правило, жены.
Одна из таких, по имени Мальвина, постоянно пряталась от пьяного мужа у нас в
подполье. Прибегала независимо от времени года в одной комбинации и сразу же
прыгала под крышку подвала. Проходило часа два-три, за ней никто не приходил.
Тогда Мальвина просила мою мать пойти посмотреть, как там «ее мужик» себя
чувствует. Мужик спал, и Мальвина тихонько возвращалась домой.
Всю следующую неделю «Двадцатый» обсуждал, кто как погулял, хорошо ли угощал, не
разбавлял ли самогонку водой и не настаивал ли брагу на табаке или курином
помете. Синяки, шишки, ссадины в счет не шли. В основном «разбор полетов»
женщины проводили в магазине, а мужики — за игрой в домино или карты.
Надо сказать, что активным отдыхом на «Двадцатом» считались отнюдь не рыбалка и
охота, сбор ягод и грибов. Это была необходимость, чтобы не голодать. А отдых —
волейбол, футбол, русская лапта, домино, карты. На деньги играли как взрослые,
так и их дети, порой даже за одним столом, и ничего особенного в этом не
находили.
Вечером обычно крутили фильмы. Мне повезло, я видел «Красных дьяволят» и немой
фильм «Смелый, как тигр». Пускали меня бесплатно, так как в мои обязанности
входило крутить «динамо». Я не знал, что это такое, но брался за кривую ручку и
беспрерывно крутил колесо, которое стояло позади киноаппарата.
Билеты на вечерние (взрослые) фильмы продавались с указанием мест. Ребята
задолго умудрялись проникать в кинозал под подиум. Затем, когда начинался фильм,
вылезали за экранное полотно и смотрели там, сидя на полу. Одно неудобство —
титры приходилось читать задом наперед.
На «Двадцатом» улиц было три, остальные — переулки. Зимой чистили только эти
улицы, а в переулках были набиты тропы к домам. Названий улиц тоже не было.
Помню, уже в техникуме руководитель дипломного проекта решил написать письмо
моим родителям, чтобы пригласить их на защиту диплома. Долго выспрашивал адрес.
Пришлось соврать. Я с ходу выпалил: улица Победы, дом 3. Наверное, потому, что
играя в войну, мы постоянно дрались до победы.
Правда, мы не делились на «немцев» и «наших». Это было просто невозможно, потому
что в поселке жил полный интернационал. Вот они, мои друзья детства: Мюллер,
Клепфер, Бимлер, Кочинский, Кунайка, Пепа, Королевский, Чабан, Шурхай, Ходос,
Руселик, Бровцев, Карташов, Петухов, Намавичус, Ефименко, Мубаракшин, Ханин,
Вишницкий… Однако мы запросто могли друг друга обозвать «немчурой», «бандерой».
Но больше общались по кличкам. Иногда кличка была абсолютно не совместима ни с
фамилией, ни с именем, ни с привычками. Они были сочные, колоритные: Колода,
Обцуги, Зюта, Кащей, Баба рисовая, Бурундук-говешка, Кулема, Лютеранка,
Читатель, Хрен с Редькой (братья). И не было никаких обид.
День радости и разборок
День получения зарплаты — особый женский день. Дело в том, что деньги в кассе
лесопункта получали жены, матери, сестры, так как мужики все были на работе, да
и считалось, что это не мужское дело — стоять в очереди за заработной платой.
Женщины же подгадывали так, чтобы в этот день у них был выходной либо работа в
ночную смену.
Очередь занимали в конторе с утра. Хотя все знали — деньги привезут только к
вечеру. Стояние в ней — своего рода «общее женское собрание» поселка. В клубе не
очень-то поговоришь, в магазине тоже. А здесь, в тесном коридоре конторы,
общаться можно было часами. Разговоры велись обо всем, кроме политики; это было
табу, и все об этом знали. Делали вид, что ее просто нет. «Перемывали кости»
жене нового технорука, приезжих медичек и учителок. Защищали своих шалопаев —
«мой-то Боря в школе хорошо себя ведет, да и учится прилично»...
Так-то оно так, только мать не знала, что я в это время уже неделю не ходил в
школу, а в заброшенном сарае играл в «буру» на деньги с пятью такими же, как я,
«хорошими мальчиками». Домой приходил четко после окончания уроков: поджидал
свой класс у дверей школы, чтобы списать домашние задания. Вечерами корпел над
учебниками так, что мать иногда жалела: «Да хватит себе голову забивать —
свихнешься еще».
Это продолжалось до тех пор, пока «классная» не пришла к нам домой
поинтересоваться, почему я так долго болею... Кончилось все жутким скандалом и
очередным тысячу первым обещанием, что больше это не повторится.
Наконец наступал момент, когда кассир открывала окошечко и громко говорила:
— Только не толкайтесь, по очереди.
Но оказывалось, что «Катька очередь не занимала», «Дуська показалась и на весь
день исчезла, а теперь претендует», а «Верка заявила, что деньги завтра придет
получать» — крики, шум, визг… Круг воюющих увеличивался. Очередь перепутывалась.
А самые хитрые успевали в это время, как у нас говорили, «отовариться». Женские
скандалы по эмоциям, жестокости, накалу страстей намного отличаются от мужских.
Наверное, постоянная забота о хлебе насущном и тяжелая физическая работа
накапливали в людях темные эмоции. И в скандалах женщины как бы освобождались от
них.
У нас в доме в этот день было так. Все садились за большой стол. Мама доставала
пачку денег и начинала раскладывать по кучкам. Этот дележ был понятен только ей.
Отец в это время демонстративно уходил на скотный двор — дать коровам сена,
убрать навоз и т. д. Нас же интересовала всегда последняя кучка: именно она
оставалась на сладости. Как только мама отдавала ее старшим братьям, тут же
всегда возникал спор — что купить? Как правило, покупались помадки: «Школьные»,
«Коровка», «Премьера». В магазин шли все вместе. Затем наступал праздник...
А в конторе у кассы можно было наутро обнаружить клочки волос, оторванные
пуговицы, разорванный на лоскуты платок, каблук от женской туфли. Все это
говорило о том, что «общее собрание женщин» удалось.
История моего гнезда
Всем большим семейством — воспитанием, контролем за учебой, поведением детей
руководила мама Мария Дмитриевна. Отец же, Пантелей Федотович, которого я видел
только по воскресеньям, в обычные дни недели уходил на работу, когда я еще спал,
и возвращался, когда я уже спал. Он вел еще и свое подсобное хозяйство: козы,
корова, дрова — да мало ли в доме работы! Изредка я видел его вечером на кухне —
он читал свою любимую «Роман-газету».
Мама очень умно давала нам поручения как бы от имени отца: «Папка просил
передать тебе, чтобы сложил дрова в сарай и наносил воды в кадки». Конечно, это
тут же выполнялось. Таким образом, мама поддерживала авторитет отца, который и
понятия не имел об этих просьбах. Она умела создать в семье атмосферу доброты,
взаимопонимания и взаимовыручки.
На улице, в школе мы были в разных компаниях, с разными интересами и делами, но
дома это была настоящая крепкая семья, где каждый готов был защищать друг друга
и прийти на помощь. Это сохранилось и до сих пор.
Нас никогда не наказывали физически, не били. Самое крепкое ругательство у папки
было «итти твою мать». Пьяного я его видел всего один раз: тогда по приказу
Хрущева урезали огороды. А ведь ради них мы сушили болота, резали скот и сдавали
мясо государству в счет немыслимых и непонятных налогов. Вот отец и напился…
Меж тем в доме всегда было спиртное. В праздники, выходные отец за обедом
выпивал пару рюмок водочки. Обязательно настаивал ее на каких-нибудь ягодах.
Последние двадцать лет он работал пилоточем: точил цепи к бензопилам, «циркуляркам»,
нарезал полотна для пил, делал топорища, клепал разорванные цепи. От наждачной
пыли тяжело заболел водяной экземой, от которой страдал до самой кончины. На
«Двадцатом» его уважали все. К Пантелею Федотовичу ходили за советом, приглашали
быть мировым судьей в каком-то споре, просто поговорить. Он был одинаково ровен
в отношениях и с зеком, и с семейным мужиком, и с подростком. Если что-то обещал
— знали: обязательно исполнит.
Отец построил дом практически в одиночку: помогали только мы — дети. Три
комнаты, кухня, прихожая, веранда, большой ухоженный двор — это все дело его
рук.
До самой смерти он не рассказывал о той «старой» жизни до раскулачивания.
Однажды его по доносу забрали и увезли в Нижний Тагил. Продержали там три
месяца, отпустили. Он всем говорил, что ездил в командировку.
Он имел все охотничьи причиндалы, но за все годы не погубил ни одной живой
твари. В лес ходил пообщаться с природой.
Мама наша хорошо пела, играла на семиструнной гитаре и на других музыкальных
инструментах. Старинные романсы в ее исполнении всегда восхищали слушателей на
семейных торжествах. Особенно «Черная роза — эмблема печали…», «То не ветер
ветку клонит…» Длинными зимними вечерами она рассказывала нам сказки и всякие
истории. Помню одну — «Про маму и двоих ее детей»: мама заболела и просила их
подать ей кружку воды. Дети расшалились и не слушали ее. Тогда она превратилась
в птичку и улетела…
Со слезами на глазах кинулся я к матери со стаканом воды. «Только не улетай,
мамочка!» — всхлипывал я.
Порой мама просила нас почитать какую-нибудь книжку вслух. Первые стихи я тоже
узнал от нее:
У меня ль плечо шире дедова,
Грудь высокая — моей матушки.
На лице моем кровь отцовская,
В молоке зажгла зорю красную.
Кудри черные лежат скобкою,
Что работаю — все мне спорится!..
Позже я основательно познакомился с творчеством поэта XIX века Алексея Кольцова.
Но эти строчки запомнил с пяти лет. Уже взрослым, приезжая в отчий дом, любил
положить голову на мамины колени и рассказывать о своем житье-бытье. Она ничего
не советовала, кивая в такт моим словам и что-то думая про себя.
Похоронены дорогие мои родители рядом, в одной оградке. Мы посадили рябину, как
мама просила. Сейчас это уже большое дерево.
И осталось нас восемь: четыре сестры и четыре брата. Валентине, старшей сестре,
сейчас уже 70 лет. Она помнит, как арестовывали в 1937-м бабушку. Лидия на год
моложе Валентины. Она рано вышла замуж и рано овдовела. Одна вырастила двоих
детей. Алевтина родилась в страшном 1937-м. Замуж вышла тоже за раскулаченного.
Старшие братья Владимир и Николай — двойняшки, но совершенно разные. Оба в 14
лет пошли работать на строительство узкоколейки, а позже дороги их разошлись, но
легкой жизни они не видели. Вячеслав закончил Талицкий лесотехникум, как и я.
Служил на Сахалине, где остался на сверхсрочной. Затем перевелся в Киргизию. И
вышло, что родной брат — за границей, и российского гражданства не имел,
иностранец. Галина, младшая из сестер, закончила культурно-просветительное
училище. Много лет работала в библиотеке им. Белинского в Екатеринбурге. Она —
центр всех наших родственных встреч. Сейчас, когда письма не в моде, с Галей по
телефону общаются из Хабаровска, Киргизии, Серова, Верхнего Уфалея, Советского.
Благодаря ей мы не растеряли друг друга. Последним в нашей семье родился я,
поскребыш. Маме был уже 41 год, отцу 46. Я всегда был любим, балован как самый
маленький.
Грустное путешествие в детство
Прошли годы. Наше желание побывать на «Двадцатом» все больше крепло. Но всегда
что-то мешало. Как-то летом собрались мы в Андриановичах помянуть брата Николая.
Сходили на кладбище, посидели за поминальным столом. И тут же решили — завтра
едем на «Двадцатый».
Отправились рано утром в Серов, там заправили топливом свой «жигуленок» и
двинулись дальше. Предстояло пройти 45 километров по асфальту до поселка
Красноглинный (железнодорожная станция Сотрино), затем 15 километров по
грунтовке до Первомайского и пять верст по лесной дороге, которая является
единственной «артерией», связывающей поселок с «большой землей».
На душе неспокойно — как же, 31 год не был в поселке. Периодически доходили
слухи: бараки снесли, разбирают дома на дачи и перевозят на ДОК или в Серов. И
чем ближе мы подъезжали, тем больше волновались. Вот мелькнули знакомые с
детства названия деревень — Морозково, Поспелково, Семеново, Мальгино. Впереди
замаячило селение — Красноглинный (в народе — просто ДОК, так как там был
деревообрабатывающий комбинат). Кстати, Красноглинным его практически никто и не
называл. Навстречу нам проехала машина. Показалось, что в ней сидит кто-то из
старых знакомых.
— Митька Бухорский, что ли? — обратился я к сестре. И тут же осекся: ведь
столько лет прошло, как не обознаться.
В ДОКе поинтересовались, как проехать на Первомайский и есть ли дорога на
«Двадцатый». Окрыленные, ринулись дальше в путь, навстречу детству. Перебивая
друг друга, спорили о том, где мы едем, правильно ли? То узнавали, то не
узнавали наши уральские приметы. Вот тут должна быть железная дорога —
остановились. Выйдя из машины, я долго искал ее или хотя бы щебеночную насыпь. С
трудом нашел: все заросло молодыми деревцами. Позже узнал, что в далекие времена
чубайсовской приватизации «новые русские» даже щебенку вывезли для своих нужд,
не говоря уж о шпалах и рельсах.
Дорога становилась все хуже и хуже. Но вот и Первомайский. Впервые по телу
прошел озноб. Я совершенно не узнавал места, где провел детство. На Первомайске
(так мы звали этот поселок) жила сестра, и я часто бывал у нее. Здесь были
школа-десятилетка и головная контора Сотринского леспромхоза, так что он был
самым цивильным из трех лесопунктов.
Теперь здесь стояли старые полуразрушенные дома, заброшенный клуб, контора
леспромхоза. Мы еще раз спросили дорогу. Последние пять километров проехали
быстро, хотя здесь яма на яме, колдобина на колдобине (спасибо сухой погоде).
Первое, что увидели — знаменитые горы опилок. Правда, оказалось их не так много,
как раньше. Проскочили до конца дороги, встретив на пути магазин и два
двухквартирных дома. Остановились, потому что никак не могли сообразить, где мы.
Вокруг все заросло травой, кое-где уже стояли полуметровые сосенки, березки. Во
дворе одного дома чистила картошку женщина. Вышли из машины.
— Послушайте, — спросил я, — это «Двадцатый»? Наша семья жила здесь лет тридцать
назад…
— Валя, это же Валентина Вишницкая, я с ней в одном классе училась! — завопила
за моей спиной сестра Галина.
Пошли охи, ахи, расспросы...
— Где дома? — поинтересовался я.
— Их вывезли, и люди разъехались, ведь лесопункт-то закрыли, — Валентина
печально улыбнулась. — Вот только козловой кран для погрузки леса в вагоны
остался. Еще не растащили. Да полусгнившая водокачка… — добавила она.
А ведь эта водокачка снабжала водой все население.
— А где дом, в котором я жила? — спросила Алевтина. — Никак не соображу.
— Вот, напротив, — показала рукой Вишницкая. — Там сейчас мой брат Володя живет.
Вовка? Где он? Я устремился к дому.
Аля заохала: в ее памяти сохранился добротный двухквартирный дом, а теперь это
покосившийся забор, истлевшее от старости крыльцо, скособоченная крыша.
На крыльцо вышел пожилой мужик, в котором я узнал прежнего пятнадцатилетнего
пацана. Я спросил:
— Ты меня узнаешь?
— Не-а, — всматриваясь, ответил Володя.
— Да Борька Карташов я! Узнал?
Вишницкий с недоверием еще раз оглядел нас:
— Здравствуйте, может, кофе зайдете выпить?
За столом мы наперебой расспрашивали о жизни поселка, о нашем родительском доме.
— Ну ты даешь, — Володя смеялся, — вон крыша видна.
Я пристально поглядел в сторону, где одиноко стояли два домика. В одном я
родился, в другом прожил свои первые пятнадцать лет. Вокруг заросли кустарников,
трава.
— Где же улицы, дороги?
— Исчезли, — Вовка досадливо махнул рукой. — Исчезли вместе с домами, бараками,
клубом, конторой, детскими садами, людьми. В начале девяностых приехал Васька
Бобровников, он тогда был директором Сотринского ДОКа и леспромхоза. Сказал, что
вывезет нас «в светлое будущее». Мол, нечего здесь прозябать на «Двадцатом». И
вывез, все вывез, вплоть до рельсов, шпал, даже щебенки. Все, кроме людей. Часть
переехала в Серов, часть — в ДОК, остались вот такие, как я, человек 60—70
пенсионеров. Здесь доживаем век, — в глазах рассказчика появился сухой блеск. —
Кому мы нужны? Никому.
У меня запершило в горле. В это время подошла Валя Пашкевич. Она была в школе
своего рода знаменитостью, участницей всех мальчишеских игр. Ее серьезно
побаивались парни — могла и поколотить.
Снова бесконечные «А помнишь?». Все это по пути к нашему дому. Я сразу узнал
ворота и щеколду, которую мастерил вместе с отцом почти полвека назад. Боже мой,
каким стал наш дом! Некогда казавшийся мне огромным (да и действительно в нем
постоянно проживало до десяти человек) с большим добротным хоздвором,
сенокосными угодьями, где накашивали более двух тонн сена, с двумя водоемами,
баней — все это казалось сказкой. Передо мной стояло строение, покосившееся,
полуразрушившееся. Под ним был штаб, где мы готовились к «войне». Мы попытались
войти, но ворота оказались закрыты изнутри. Пришлось перелезать через забор, как
в старые, добрые времена, когда поздно возвращался домой, и уже все спали. Из
второго нашего дома вышла пожилая пара. Это были Иван и Светлана Шлык — наши
дальние родственники.
— Ты куда лезешь? — строго спросил Иван.
— Домой, — съязвил я в ответ.
— Это не твой дом.
— Нет, мой.
Все это проходило в момент нашего сближения друг с другом.
— Борька, ты?!
Мы обнялись. С волнением вошли в отчий дом. Все знакомо до боли и… пугающе
незнакомо. Вот здесь стоял умывальник, вот лаз в подвал, где хранили картошку,
вот мамина комната, вот наша, мальчишечья: здесь стояли топчаны, на которых мы
спали. Плита в кухне переделана, а стол и лавки те же. Ба, наш шкаф! В нем я
прятался, играя с сестрой. Глаза у всех нас стали мокрые.
Пошли в стайки. Вот в этом углу жили козы, дальше — корова с теленком, наверху —
сеновал (сколько раз я залезал туда то в обиде на кого-нибудь, то просто
помечтать!). Огород зарос сорняком. Видно, что много лет нет хозяйской руки.
Ходим по траве, заглядываем в углы усадьбы, узнаем что-то, а что-то нет.
Возбужденные, идем к Ивану Шлыку — в дом, где родились Галина и я. Снова сердце
захолонуло. В потолке тот же вбитый крюк, на котором висела моя люлька (так
рассказывала мама). Осторожно осматриваемся. Кажется, каждый из нас хочет
вобрать все в себя — каждую трещинку, каждый гвоздь, ведь здесь начиналась наша
жизнь.
Собрали снедь, все, что взяли с собой, уселись. Первый тост — за малую родину,
за отчий дом. Замолчали, думая каждый о своем. Душа была печальна и покойна — мы
дома. После второй рюмки Варвара вдруг начала петь…
— Когда выпьет, всегда поет о сыне, — прошептал мне Иван. — Он служил в
Афганистане, там пристрастился к наркотикам. Одиннадцать лет боролась она с этим
недугом. Но не спасла.
Варвара, уронив голову на руки, затихла. В комнате повисла гнетущая тишина.
А время летело. Наступал вечер. Пора было собираться в обратный путь. Прощались
с твердой уверенностью, что обязательно приедем сюда ещё.
Заехали на кладбище. Оно давно разделилось на старое и новое. Старое — это где
хоронили лет 30—50 назад. Деревянные оградки, упавшие кресты. Все это заросло
густым ельником. Мрачно и тоскливо вокруг. Новое — рядом, отличается только тем,
что здесь еще можно прочесть, кто захоронен, и вместо крестов — памятники.
Подошли к могиле Вариного сына. Со снимка смотрел на нас молодой солдат. Помянув
всех, кто здесь захоронен, поехали в Серов. Все думали, наверное, об одном и том
же.
«Двадцатый», как же ты стал не похож на себя! Время и современные деятели
затолкали тебя в небытие, вычеркнули из жизни, наплевали на людей, живущих там.
В общем, поступили вполне в духе теперешнего времени. Как это горько!
|
|
 |
|
 |
|